Статистика
Онлайн всього: 13 Гостей: 13 Користувачів: 0
|
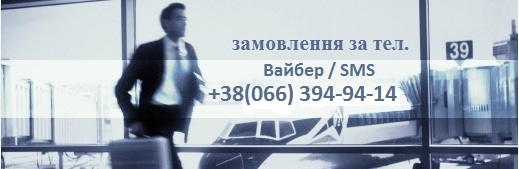 |
Матеріали для курсової |
НОВОЕ ОТНОШЕНИЕ К ПРИРОДЕ
|
| 07.03.2014, 18:47 |
| На огромном фундаменте средневекового спиритуализма, значение которого для искусства мы пока что больше предчувствуем, чем действительно знаем, совершался не только предметно, но и формально, начиная с XII в., возврат к природе, к чувственному миру*. Он покоился, как уже указывалось, на всеобщем духовном примирении с земным миром, который допустили в качестве места действия весьма достойных дел и как необходимую первую ступень вечного бытия избранных. В искусстве это примирение выразилось в том, что на природу перестали смотреть как на принципиально не имеющую значения для понимания художественных задач, но, с определенными оговорками, заново открыли ее для искусства.
* Превосходную окончательную формулировку находим у Фомы Аквинского: «Господь радуется абсолютно всем вещам, ведь каждая пребывает в действительном согласии со своим существом» (ср.: Jungmann. Ästhetik, 92).
Яснее всего выступает перед нами это изменение, со всеми связанными с ним новшествами, в изображении человека, причем этот прогресс, по крайней мере в первый период, мы опять-таки лучше можем проследить на примере творений пластики, чем живописи, где старые, покоящиеся на других предпосылках композиции действовали более долго. (Позднее это соотношение становится обратным). Концентрация интересов на надмирных истинах имела в раннем средневековье то следствие, что тело играло совсем подчиненную роль и приобрело в художественных изображениях, как в древнегреческом архаическом искусстве, безжизненный, негибкий, глыбообразный характер. Не сильно подвижные фигуры, — которые там и здесь применяет средневековье, как наследие больших исторических циклов древнехристианского искусства (подобно тому, как в искусстве современности продолжают жить барочные мотивы), — а строгие «осевые» фигуры, также являющиеся наследием древнехристианской античности, которые поворачиваются к зрителю и между собою лишь слабо связаны жестами, а в большей мере внутренней общей духовной потенцией, воплощают стилистический прогресс средневекового искусства как в скульптуре, так и в живописи.
Когда духовная ориентация снова начала обращаться к человеку в земном его бытии, застывшие символы людей снова ожили, но произошло совсем не так, что их снова вернули к их классическому происхождению или что искусство пошло по дороге, похожей на путь греческого искусства, когда последнее старалось придать древневосточным и собственным архаическим созданиям большую степень непосредственной жизненности. У греков это оживотворение покоилось в первую очередь на наблюдении и изображении физических мотивов движения, которые, будучи даны в определенных образных представлениях, были сведены к их природной закономерности и причинности, к их органической связи и к лежащим в их основе волевым актам; человек как духовное существо художественно вскрывался только в зеркале материальных событий. Но в новом готическом искусстве (по всему ходу его истории, состоявшей в преодолении античного художественного материализма) это сначала совсем не могло быть принято.
116
Таким образом, статуи или написанные отдельные фигуры еще долго сохраняют глыбообразный характер, и в изображении физических мотивов движения можно наблюдать — вплоть до вторжения ренессанса — сильнейшую связанность* , по отношению к которой отдельные маленькие достижения едва ли могут быть приняты во внимание. Было избрано, таким образом, другое средство, при помощи которого преодолевался безжизненный, кристаллический, неподвижный характер древнейших средневековых фигур, и этим средством было духовное оживление. Путем выражения духовного, будь то в целом, как изображение связующей духовной тенденции, будь то в особенности, как передача духовного соприкосновения или духовной характеристики, в мертвые создания вдохнули новую жизнь. Новый послеантичный натурализм
*Это особенно надо иметь в виду при рассмотрении проблем нового статуарного монументального стиля. Без сомнения, возобновление самой практики статуарного искусства, потерявшего в эпоху художественного антиматериализма все права на существование, связано прямо или косвенно с античными воздействиями, причем нельзя говорить ни об опытах подражания, ни о соперничестве с античными статуями. Но разве действительно люди были совсем слепы и глупы, как это однажды утверждалось, перед красотою классического телосложения? Разве единственная причина, почему от нее отвернулись, состояла действительно в том, что, не имея опыта в изображении тел, потеряли понимание высоких преимуществ античных образцов? Что это было не так, доказывается недвусмысленно тем, что, несмотря на возможность часто наблюдать античные влияния, на севере вплоть до Возрождения — за ничтожными исключениями — нет попыток обогатить в этом направлении художественные решения и противопоставить классическим произведениям искусства что-либо похожее. Даже в статуях, несмотря на сильное движение Возрождения в XIU в., все попытки такого рода оставались очень робкими и были почти безрезультатными, пока в XV в. внезапно не наступил поворот по причинам, которые должны быть рассматриваемы в другой связи. Между Венерой Пизанской и бронзовым Давидом Донателло находится пропасть, требующая более глубокого объяснения, чем только введенное натуралистическим прогрессом новое понимание античности. Натуралистические достижения готики были, возможно, внешней предпосылкой, но ни в коем случае не собственной внутренней причиной этого перелома.
117
исходит от восприятия человека как духовной личности: это было исходным событием нового художественного развития, которое должно было оказать решающее воздействие на все отношение к природе. Это было тем неизбежным следствием всего развития христианского искусства, которое с самого начала, на что уже указывалось, положило в основу изображения фигур и их композиционных связей не действия, но духовные ситуации. Однако же на ранней стадии этого развития основная психическая составляющая художественной концепции была почти имперсональной, той высшей духовной силой, что властвует надо всем происходящим, отчего временами и возникает то резкое противоречие между психическими и физическими событиями, что современному зрителю, привыкшему сводить их к некоему единству, должно показаться варварским и противным здравому смыслу. Хотя метафизическое мировоззрение было уже связано с относительным признанием земных чувственных ценностей, однако же психоцентрическое восприятие бытия осталось, как и прежде, определяющим для всех областей жизни, тем самым — и для отношения к природе, причем разница состояла в том, что эту одухотворенность искали не исключительно в трансцендентных субстанциях, ее толковали не как некую господствующую по ту сторону естественных явлений и событий силу, но как по возможности связанную с ними, с чувственным восприятием и психическим опытом*. Рассмотрим важнейшие следствия этого развития.
В нем заключался, наконец, существеннейший шаг к полному изменению идеальности в изображении человека. В основе этого изображения лежал не художественно освоенный до степени высшего совершенства механизм тела, но оно покоилось, в основном, на духовных, в первую очередь спиритуально этических достоинствах. Целью нового искусства были не телесные идеальные образы, через материальную красоту
*Ср.: Kurt Freyer. Entwicklungslinien in der sächsischen Plastik des dreizehnten Jahrhunderts // Monatshefte für Kunstwissenschaft IV (1911). S. 261 ff. Это — заслуживающая внимания попытка рассмотреть художественные проблемы готической скульптуры на локально и временно ограниченном примере.
118
и соразмерность которых должно было быть художественно достигнуто среди всего бытийного нечто более высокое и возвышающее, нет, целью были духовные индивидуальности, что противопоставляли повседневности понятие интеллектуально и этически более высокого человечества. Это нельзя толковать так, будто земная телесная красота была принципиально исключена. Вплоть до готики с нею, правда, боролись или по меньшей мере она не играла никакой роли*. Только
*Так, уже Павлин из Нолы в ответ на просьбу Сульпиция Севера о портрете его и его жены, отказывает таким образом: «Qualem cupis ut mittamus imaginem tibi? Terreni hominis an coelestis? Scio quia tu illam incorruptibilem speciem concupiscis, quam in te rex coelestis adamavit»(«Какое хочешь получить от нас изображение? Земного человека или небесного? Я знаю, ты жаждешь того непорочного образа, который любит в тебе царь небесный» (лат.)). (Epistola XXX. Migne P. L. 61, 322). То, что должно было казаться классически образованному епископу несоединимым с сущностью искусства и вследствие этого исчерпывающим основанием для отказа от него, постепенно трансформировалось в последующее время в исходный пункт нового изображения человека. Подобные мысли снова и снова высказывались средневековыми писателями: «Quid namque eorum, quae in facie lucent, si internae cuiuspiam sanctae animae pulchritudini comparetur, — писал Бернар Клервосский, — non vile ac foedum recto appareat aestimatori?» («Ибо что из того, что кажется прекрасным во внешнем облике, если сравнивать его с вечной красотой какой-либо святой души, не покажется по справедливости оценивающему жалким и уродливым» (лат.)). (В Cant. Serra. 27, Nr. 1. Migne P. L. 183, 913). Также и у Фомы Аквинского: «Perfectissima formarum id est anima humana, quae est finis omnium formarum naturalium» (Qq. disp. q. de spirit. creat. a. 2). («Совершеннейшая из форм, то есть душа человеческая, каковая есть цель всех естественных форм» (лат.)).
Однако же это означает для согласования в искусстве его времени красоты духовной и телесной уже не непреодолимое противоречие, так как он пытается установить некое более близкое разграничение. В то время как для классициста среди отцов церкви, для св. Августина, в его эпоху телесная красота была низшей степенью красоты (pulchritudo ima extrema. De vera relig. c. 40, n. 74, Migne P. L. 34, 155), то св. Фома пытается в соответствии с новым искусством воздать должное как телесному, так и духовному: «Visio corporalis est principium amoris sensitivi. Et similiter contemplatio spiritualis pulchritudinis vel bonitatis est principium amoris spiritualis» («Телесное зрение есть начало чувственной любви. И подобным же образом созерцание духовной красоты или благости есть начало духовной любви» (лат.)).(S. Th. I, sec. qu. 27, а. 2).
119
божественные фигуры и ангелы сохранили в раннесредневековом и романском искусстве отблеск классического совершенства форм. В общей же массе фигур нельзя найти и следа от этого. В большинстве они представляются искаженными, непропорциональными, гротескными и карикатурными, как в начале развития в VII и VIII вв., так и в своих последних романских вариантах, так что нельзя говорить ни о постепенной утрате классического канона, ни о постепенно преодолеваемой примитивности*. При этом вовсе не хотели достигнуть, — как порою в новейшем искусстве, — безобразно-характерного, а только подавляли все, что напоминало о достоинствах телесного, о культе тела и жизни; этим и объясняется мумиевидный характер изображений. Старый классический формальный канон превратился, поскольку его лишали всего жизненного и материально действенного, в старчески сморщенное привидение, и эта черта, соответствующая основному направлению художественного восприятия, выступала и там, где в связи с новым средневековым развитием формальных проблем снова, как это было в девятом или одиннадцатом веках, делались попытки принять вместе с классическими формальными решениями также и классические конструкции форм. Раннее средневековье имело идеалы, независимые от таких конструкций, и то, что мы видим вплоть до XII в. в качестве следов художественного прославления человека, было скорее остатком прошедших времен или рабочей формулой, нежели новым достижением.
В этом, конечно, можно отметить и начавшееся вместе с более светской ориентацией духовных интересов изменение, которое также вполне осознавали. Греческое понятие красоты было вновь введено в литературу, причем ссылались главным образом на Августина и на «неоплатонического псевдоапостола, эстетика между отцами церкви», Дионисия Ареопа-
*Наиболее отталкивающие современного зрителя, похожие на мертвецов головы были созданы лишь в XII в. на пороге нового готического искусства, и направление, из которого они возникли, господствовало даже во Франции в отдельных школах и тогда, когда новый стиль был уже развит. См.: Vöge. Ук. соч., стр. 44, рис. 15.
120
гита*, объяснение писаний которого играло важную роль в рамках художественного учения Фомы Аквинского и которому Данте воздвиг непреходящий памятник. Старые темы эстетической спекуляции были подняты вновь, получив, однако, новое содержание. В то время, как для Августина исходной точкой всех художественных идей была абсолютная сверхчувственная красота бога, выражающаяся как «живой ритм и чисто духовная форма и целостность грандиозной мировой поэмы»** , мыслители готической эпохи отвели красоте чисто светскую сферу, причем она, разумеется, должна быть связана с honestum, что, по словам Фомы Аквинского, толковалось как «духовное украшение и красота***. Из этой связи возникло новое понятие художественной красоты и возвышенности, в котором материально красивая форма представляется выражением духовных преимуществ. Готические мадонны являются образами прекрасной женственности, святые рыцари — благородной молодой силы, апостолы и исповедники — воплощением несокрушимой мужественности. Святые фигуры должны обладать доступной чувствам телесной красотою: отсюда был найден путь как в искусстве, так и в его теории, не только к миру чувств, но и к античности, путь, выходящий за рамки средневековья. Однако ударение делается не на телесной характеристике, а на связанных с нею духовных свойствах, на очаровательности нежно чувствующей женщины, на крепкой, но преданной богу воле христианского борца, которому чуждо всякое высокомерие, на мягкой, зрелой мудрости основателя и учителя нового человечества.
В этом союзе спиритуалистического идеализма средних веков с новым утверждением мира заключено происхождение нового художественного восприятия человека, которое мы обозначили как стремление раскрыть духовную личность, и
*Borinski. Op. cit, S. 73.
**Е. Troeltsch. Augustin, die christliche Antike und das Mittelalter. S. 112; ср.: Riegl. Das spätrömische Kunstindustrie. S. 211 ff.
***Cp.: Фома Аквинский, I, sec. qu. 5, 27, 39 и II sec. qu. 145, a. 2 и также комментарий к псевдо-Дионисию «De divinis nominibus», cap. 4, I. 5
121
которое должно было привести также и к новым предпосылкам в передаче натуры в изображении человека. Духовные индивидуальности требуют естественным образом также и телесной индивидуализации, и если в этой индивидуализации сначала замечается сильная, заданная основными линиями христианских жизненных заповедей типичность, то в таких схемах речь шла не так, как в античности, — о синтезе индивидуального в едином телесном идеале, — а о сходстве сущности отдельных индивидуальностей, сходстве, которое, хотя, возможно, и придавало созданиям первого периода этого нового искусства условный характер, но вело не к последовательному синтезу, а вместе с сильнейшим ростом новой духовно-светской организации человечества к прогрессирующей индивидуализации, тем самым знаменуя начало процесса, который, несмотря на некоторые более поздние отступления, и сейчас не может быть признан законченным.
Но изменилось не только понятие личности. Стало иным и отношение ко всему внешнему миру, как только им начали опять интересоваться, на основе смещения акцента на психические феномены, что отделяет христианскую эпоху от классической. В развитие этого переворота, берущего свое начало в философских и художественных проблемах поздней античности, христианство с его верой в спасение и этикой человеческого мышления научило людей подчинять восприятие мира делу спасения души и христианской жизни или, другими словами, индивидуальной жизни чувств, индивидуальным религиозным, то есть духовным интересам. Индивидуальное ощущение и вера, видение и мышление, лично обусловленные духовные потребности и переживания сделались мерилом отношения к окружающему миру, который стали понимать как произведение духа. Это открытие мира в зеркале индивидуального сознания было, однако, вторым фундаментальным достижением, которое проявило себя, когда взор снова был направлен на этот мир.
В изображении человека новое одухотворение и проникновенность получили выражение трояким образом:
1) в изображении душевного контакта между отдельными фигурами. Психические взаимоотношения или конфликты еще
122
долгое время не были, правда, самостоятельной художественной проблемой; но они, как это выявлялось из изображенного повествования, подчеркивались несравненно сильнее, чем раньше, превращаясь в интегрирующую часть художественного изображения человека. Так, посещение Марией Елизаветы — сцена, которая еще в романском искусстве воспринималась в античном смысле как материально подвижная группа, — в ранней готике превращается в почти недвижимое духовное соприсутствие, которое потом было заменено душевным диалогом;
2) в изображении ощущений, выражение которых не
только было усилено (что можно наблюдать хотя бы в фигурах
групп распятия), но которые также в первый раз в развитии
искусства сделались (в качестве пассивных душевных процес
сов, начиная от тихого, обращенного вовнутрь самопогруже
ния вплоть до самых сильных потрясений радости или
страдания) самостоятельным содержанием художественного
творчества наряду с действиями или на месте их;
3) в отношении к внешнему миру. В рядах статуй, украша
ющих фасад готического собора, мы можем сделать наблюде
ние, что фигуры в большинстве случаев стоят без какой-либо
связи друг с другом и, за исключением символических наме
ков, вне всякого действия; но вместе с тем эти фигуры испол
нены внутреннего напряжения, которое только покоится не
на волевом акте, а на рецептивном психическом процессе: на
созерцании, на осознании впечатлений, связывающих каждую
отдельную фигуру с внешним миром. Ничто не может ярче
осветить принципиальное различие нового искусства от антич
ного, чем эта особенность, которая в состоянии объяснить
старое выражение, что «готика открыла людям глаза». Но
«готика открыла глаза» не только изображенным людям, а и
изображающим. В связи с тем, что «приятие в себя», наблюде
ние, субъективное видение, взгляд на мир, как продукт духа,
получили ведущую роль, естественным образом должно было
в корне измениться и отношение между искусством и действи
тельностью. Место объективной законченности, желания
воплотить высшее понятие формальной данности, место
всеобщего решения связанных с данностью проблем, решения,
123
противопоставляемого единичным явлениям действительности, — это место заняло восприятие многосложности явлений природы и жизни*, т. е. изучение природы в совсем новом, ранее никогда не существовавшем значении слова. Человек сделался центром искусства совсем в другом смысле, чем в античности: не как объект, а как субъект художественной правды и закономерности. Мерилом художественного достижения является сейчас не отыскиваемая художественной работой поколений норма, а вновь постоянно приобретаемые наблюдение и опыт. В то время как античность как можно больше оттесняла субъективное, оно теперь становится важнейшим исходным пунктом художественного творчества, и при этом во всех реальных областях жизни, т. е. не только так, как это было в первый период развития христианской культуры — лишь через отношение к метафизическому объяснению мира.
Это должно было иметь колоссальное влияние на искусство в двояком отношении. Прежде всего экстенсивно. Образные представления классического искусства были при всем своем многообразии ограничены; теперь же не было принципиально никаких границ, ибо мир того, что может быть наблюдаемо, — мир субъективных впечатлений, — неограничен. Таким обра-
*Это новое восприятие художественной правды находит себе выражение также в писаниях Фомы Аквинского: «Относительно образа следует полагать, что он происходит из другого, схожего с ним по виду, или же как бы вроде знака вида» (Фома Аквинский, I, 35, а. 1). Схоже также и в комментарии к Дионисию Ареопагиту: «...pulchrum addit supra bonum ordinem ad vim cognoscitivam illud esse huiusmodi» («...прекрасное добавляет к благому порядок и познаваемость, дающую возможность быть каким-то образом тем, а не иным» (лат.)).(с. 4, lect. 5).
Еще дальше идет Дунс Скот: «Nunc autem in toto opere naturae et artis etiam ordinem hunc videmus, quod omnis forma sive plurificatio semper est de imperfecto et indeterminato ad perfectum et determinatum» («Ныне же мы видим во всяком творении природы и искусства тот порядок, который есть всякая форма или умножение, всегда ведущее от несовершенного и неопределенного к совершенному и определенному» (лат.)) .(De rer. princ, qu. 8, а. 4, 28, p. 53 b, Лейденское издание 1639 года).
124
зом, хотя в фактическом художественном овладении только постепенно (этот процесс также продолжается вплоть до современности), но в принципе, как художественно данная и разрешимая задача, уже в средние века для искусства был завоеван весь мир видимости и все, что с ним связано. Это новое, более широкое открытие природы ставили в связь с прирожденной любовью к природе новых германских народов. Но в противовес такому утверждению можно подчеркнуть, что ни поэзия, ни изобразительное искусство этих народов в предшествующие столетия не дают тому повода. В самом крайнем случае можно говорить лишь о предрасположении, тогда как фактическое расширение художественных задач неограниченными наблюдениями природы, без сомнения, было исторически обусловленным событием, подобно возникновению эмпирических наук.
Равным образом невозможно объяснить весь этот исторический процесс, из которого проистекает новое отношение к природе или, другими словами, открытие природы и человека, как это обычно называют, как некое обретение самостоятельности новыми народами по отношению к церковной жизни или как независимое от этого светское ренессансное движение человечества. Об этом не может быть и речи, так как новое всецело коренится в христианском спиритуализме средневекового мира, без которого новое художественное восприятие было бы столь же мало представимо, как и новая наука, новая поэзия, новое мирское, социальное осознание долга или новая светская жизнь чувств. Хотя на основе невероятно сложного исторического развития и происходит определенная секуляризация духовных сил, но не в противоречии с религиозной культурой средневековья, а исходя из ее основ и в ее рамках; и такие определяющие точки зрения как новое значение духовной личности и новое восприятие природы покоились на тех линиях развития, что не могут быть отделены от той перестройки человечества, что нашла свое выражение в христианстве.
Ясно, что с такой переменой должно было быть связано далеко идущее преодоление традиционных образных представлений. В то время как в предшествующем периоде мотивы
125
изображения были ограничены определенными старыми циклами, которые расширялись или сжимались и многоразлично редактировались вновь, но всегда проходили в крайне ограниченном кругу образных представлений (который был ясно беднее, чем его ранние христианские предпосылки), начиная с середины XII века это ограничение пропало, и новый мир фантазии в необозримой, казалось, полноте влился в искусство. Не только были заново пересмотрены старые мотивы изображения, но были изобретены и новые, к которым присоединились многочисленные новые эпические и лирические, религиозные и светские темы. Тематическое обогащение искусства было не менее велико, чем то, которое произошло в XIX в. по отношению к искусству ренессанса и барокко, только с той разницей, что расширение изобразимого коснулось менее предметности природного наблюдения (хотя и здесь произошел большой переворот), нежели литературно-повествовательного элемента. Все средневековое искусство имело, как часто справедливо указывалось, сильно выраженный литературный и иллюстрированный характер*; и это было вполне естественно, что в той мере, как менялся и расширялся круг литературных интересов, как церковная и светская литература оказывалась пропитанной новым расцветом жизни фантазии, это находило свое выражение также и в изобразительном искусстве. Речь при этом идет не только о потребности снабжать новые произведения иллюстрациями, но также и о
*Стихи Пруденция «Басня не бессмысленна и не старческая; живопись передает историю, которая засвидетельствована в книгах, показывает истинную веру старого времени» (Peristephanon Hymn IX, Migne P. L. 60, 434) часто перефразировались в средние века, причем в раннее время наивно подчеркивалась практическая цель. «Картины в церкви, — писал Григорий Великий епископу Серену, — должны быть для простых людей тем, что для образованных книги» (L. 9. epist. 208. Mon. Germ. Epist. II, S. 195). Точно так же высказался и синод в Аррасе в 1025 г. (Didron, Iconographie Chrétienne, S. 6). C XII в. место педагогического обоснования заняли, как правило, указания на идеальную ценность искусства. Ср.: Фома Акв., I, qu 75. а. 5с; S. Th. II, sec. qu 167, а. 2 с. и сочинение Бонавентуры «De reductione artium ad theologiam».
126
самостоятельном параллельном явлении. Бесконечные рассказы картин на стекле были церковным вариантом рыцарских романов. Но все-таки зависимость от литературного круга мыслен была не только в изображениях исторических или поэтических событий, но и в каждом изображении природы и жизни или в передаче отдельных объектов*. Без сомнения, не случайно, что между великой энциклопедией средневекового знания, «Зерцалом» Винцента из Бовэ, и поздними средневековыми изобразительными темами налицо величайшее соответствие; общий корень лежит в основе школьной книги и распространенных предметов изображения**. Не чувственные впечатления и первичные образные представления, как в античности, а теоретическое знание и почерпнутое из литературных источников образование были исходной точкой великого тематического обогащения, которое совершилось в готическом искусстве XII и XUI вв. И указало путь не только ему, но и всему дальнейшему ходу развития европейского искусства. В отличие от древневосточного и классического искусства, — где область художественного изображения с самого начала была ограничена определенными материальными отношениями и художественными проблемами, — европейская художественная жизнь приобрела в этом как почти безграничную программу, так и научно распространенную основную черту, вначале, пожалуй, выражавшуюся только в наивном расширении интересов, но потом переродившую все понятие художественного.
*«Деревья и камни научат тебя тому, что ты не сможешь услышать от учителей», — говорит Бернард. О средневековом символизме см.: Borinski. Op. cit.; относительно своеобразной роли «примера» в средневековом искусстве см.: /. Schlosser. Zur Geschichte der kunstl. Überlieferung im späten Mittelalter // Jahrbuch der Kunsthist. Sammlungen. Band XXIII. S. 284; и: /. Schlosser. Materialien zur Quellenkunde der Kunstgeschichte//Wien. Akad. der Wissenschaften. 1914. Bd. I. 77. Abt. 3. S. 86.
**Cp.: Liliencron. Op. cit. О связях между «Зерцалом» Винцента из Бовэ и современным ему искусством: Е. Male. L'art religieux du XIII s. Paris, 1902; следует, однако, подчеркнуть, что при этом речь не может идти о непосредственных заимствованиях.
127
Еще более радикально, чем выход за пределы традиционных мотивов изображения, было преодоление традиционного формального восприятия. Это преодоление можно установить даже в самых неблагоприятных случаях, например, даже там, где, — как, например, в изображениях Христа или мадонны, — налицо был в качестве образца издревле принятый, как бы освященный тип, оказывавший в предшествующие эпохи самое большое сопротивление каждому изменению.
В то время как романское изображение Марии или Христа ясно представляется звеном развития как во всем типе, так и в трактовке одежды, форм тела, в рисунке и моделировке, в отношении между формой и плоскостью, между светом и тенью (развития, генеалогическое древо которого может быть прослежено вплоть до античности), в готическом искусстве эта непрерывность совершенно теряется, и если традиционная композиция иногда и сохраняется, то все же формы и решения, которые оно подсказывает художникам, оказываются новыми. Они покоились больше не на традиции, а на новом самостоятельном восприятии природы. Это совершенно ясно в изображениях, которые более или менее независимы от старых образных идей.
Вместе с перенесением акцента в отношениях между художником, природой и произведением искусства сделалось необходимым также изменение и в отношении формальных проблем, в том, что составляет вопрос о «как» в изображении природы. Решающие моменты субъективного восприятия и наблюдения должны были сыграть большую роль также в передаче формы и всех формальных и пространственных соотношений.
В качестве верного природе воспринималось не познание природы, поднятое до степени нормы, понятия и совершенства формы, а единичное наблюдение и индивидуально характерное. Таким образом, вместе с готикой победила не только предметно — по своему духовному содержанию, — но одновременно и стилистически — до последней линейной черты — Другая, новая верность природе, которая, несмотря на многие кажущиеся отступления, на все времена безоговорочно преодолела античность. Не в отдельных формальных или предмет-
128
ных достижениях или прогрессе, а в этом основном факте, решающем для всего будущего культурной сферы Запада, заключается значение нового готического натурализма. Подобно тому как в греческом искусстве по отношению к древневосточному, так и в готике достигло победы новое, коренным образом отличающееся от классического восприятие природы. Новое человечество, вышедшее из величайших духовных переворотов, заново начало, исходя из новых точек зрения и духовных интересов, художественно открывать природу. Развитие искусства нового времени нельзя понять, если постоянно не иметь это перед глазами.
Можно было бы, конечно, спросить, почему этот новый натурализм, влияние которого можно наблюдать во все последующие времена и который может быть нами назван индивидуально-рецептивным, почему в готическую эпоху он, несмотря на то, что он был абсолютно преобладающим в том, что касается наблюдения природы, все же не достиг полного развития помимо ограниченных начинаний? Это объясняется его уже раньше отмеченными трансцендентно-идеалистическими предпосылками. Ведь над миром чувств, над жизнью, над верностью природе и радостью от нее в нашем значении этого слова везде стояло еще и откровение, сфера надмирной, религиозной отвлеченности, бытие, которое следует не тем законам, что познаются чувствами и поддаются пониманию, бытие, которое нельзя мерить только преходящими мирскими ценностями*. И искусство должно было приближаться именно к этому вечному и беспорочному над-миру, должно было поднимать его до уровня зрителя. Возвышать не только через идеальную абстракцию, как это было в предыдущий период христианского искусства, когда тело и дух шли раздельными путями, но через соединение духовного содержания с обусловленным и ограниченным им чувственным воздействием идеальной и телесной красоты, при должном господстве первой.
*Согласно Винценту из Бовэ, человек поднимается через восприятие сотворенного от низших к высшим ступеням познания, к познанию Бога; от созерцания отражения к постижению прототипа (ср.: R. V. Liliencron. Op. cit. 13).
129
Так, изображение Марии должно было быть большим, нежели только отображением красивой женщины, по-человечески любвеобильной матери; она одновременно должна была в бессмертной отвлеченности воплощать сверхземную благодать матери Бога. Когда апостолы и мученики характеризовались как духовные личности, то в основе этой характеристики наряду с натуралистическими вспомогательными средствами лежало также стремление наглядно показать зрителям представителей метафизически абсолютной, вечной, святой общины. Дело при этом касалось не только поучительных целей (на что привыкли односторонне указывать), не только написанной или высеченной из камня теологии и церковного воспитания человека, но и — в не меньшей мере — созданий фантазии, в которых бы оказались сконцентрированными до степени образных идеальных фигур человекоподобные религиозные представления. Средневековые образы представляются нам менее новыми, чем греческие, потому что они не были, как последние, новыми иконографически, а по большей части восходят к старым, часто также античным замыслам. И все же они были новы, как и новое восприятие природы! В их основе лежало в корне отличное от античного понятие идеальности, исходной точкой которого была не метафизическая проекция чувственного опыта, как в греческом искусстве, но в котором, наоборот, общая значительность художественных результатов чувственного опыта устанавливалась согласно ее отношению к сверхчувственным духовным ценностям. Как мало внимания обращали на эпохальную значимость этого факта! Чувственная форма в искусстве как адекватное выражение абстрактных психических событий, им подчиненная, согласно им идеализированная — какое богатство новых горизонтов, бесконечно новых возможностей художественной концепции и воздействия было в этом заключено! Классическое искусство могло достичь высокого расцвета, объективируя телесную и космическую закономерность, красоту и гармонию в определенных созданиях фантазии. Оно могло добиться глубокого влияния на жизнь, но в его чувственном объективизме заключено было также ограничение, которое рано или поздно должно было обозначить конец
130
подъему. В чистом спиритуализме поздней античности и раннего средневековья снова налицо была опасность для искусства — потерять в конце концов всякую возможность движения дальше, движения, коренящегося в чувственном переживании, в живом восприятии и опыте. Этим обеим основным системам художественного идеализма позднее средневековье противопоставляет третью, повышая объективную правду и красоту материальной формы до степени послушного выражения «сверхматериальных» духовных ценностей, всеобщей и индивидуальной борьбы за идейный и этический прогресс человечества.
Подобно тому как из принципиального одухотворения всех жизненных связей возник новый натурализм, так из тех же источников возникла и новая светски идеалистическая ориентация искусства, возникло новое отношение искусства к движущим человечество идеям и чувствам. Было положено начало развитию, которое привело к тому, что художественное творчество, — не утеряв своих отношений к чувственной жизни, — в последующую эпоху в большей мере, чем раньше, стало принимать непосредственное участие в мирских духовно-идейных движениях, черпая непосредственно из захватывающего пафоса новых всеобщих идеалов человечества вплоть до тихого признания субъективного душевного переживания, заимствуя от них, как и от природы, возможности внутреннего превращения и обновления.
В готике, правда, речь сначала шла о связи, что существует между художественными ценностями земного бытия и трансцендентным миропорядком, между светской красотой и христианским идеалом жизни.
В этом соединении заключался, однако, дальнейший источник преобразования основных древнехристианских образных типов, прародительский ряд тех олицетворений одухотворенной, связанной с глубиной чувств или с определенными этическими достоинствами красоты, которые (подобно тому как в старом искусстве идолы телесного совершенства) при изменившихся предпосылках и помимо последних оказывали во все последующее время снова и снова влияние на идеализирующее изображение человека, а в готике они были как бы
131
образцовыми инкунабулами одухотворенного понятия красоты, игравшего большую роль также и в современной им церковной и светской поэзии. Только этим объяснимо то, что эти олицетворения предстают перед нами предметно ограниченными даже еще и в то время, когда определенно нельзя уже говорить о робости в передаче природы.
Но дело касалось не только идеальных типов. Также и вне их мы можем повсеместно наблюдать возникновение нового восприятия красоты, в котором, по сравнению с античностью, завоевывается новый масштаб, и причем не только в его духовных, но и в его чувственных составляющих. Нельзя сказать, чтобы формы, выражающие силу и энергию, совсем исчезли, но как выстроенные на основе равномерной гармонии систематической культуры тела эллинистические образы, так и массивные, плотные властные римские типы, да и неуклюжие фигуры, характерные для раннесредневекового ухода от любой телесной красоты, все более и более уступали место стремлению к нежному изяществу и грациозной легкости, стремлению, постоянно удерживавшему, несмотря на многочисленные превращения с двенадцатого до шестнадцатого веков, связь с идеальностью, для которой душевные превосходства, аскеза и задушевность, возвышенные ощущения, альтруистское настроение и покоящееся на духовной общности устройство жизни были важнее, чем телесное совершенное и индивидуальное (или публичное) сознание власти.
|
| Категорія: Історія мистецтва як історія духу | Додав: koljan
|
| Переглядів: 355 | Завантажень: 0
|
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі. [ Реєстрація | Вхід ] |
|
|



