Статистика
Онлайн всього: 8 Гостей: 8 Користувачів: 0
|
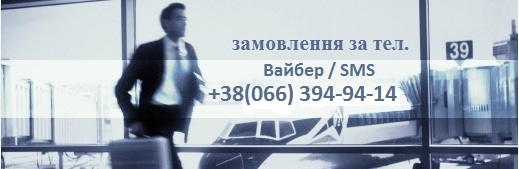 |
Матеріали для курсової |
ОСОБОЕ НАЗНАЧЕНИЕ
|
| 23.04.2014, 16:13 |
| В феврале сорок второго года группу в составе двадцати девяти бойцов вместе со своим командиром капитаном Прудниковым проходила необходимую подготовку. Они жили в самом центре города, в здании военного училища, тренировались на стадионе «Динамо». Пятого марта отряд особого назначения был отправлен к линии фронта.
Мы подробнейшим образом расспрашивали наших героев про этот день. Но решили не снимать их воспоминания синхронно. В данном случае, нам показалось, нужны не бытовые детали, а резкий эмоциональный удар. Нужно было, чтобы зритель сразу ощутил настроение того часа и тех людей. Ведь могло случиться, что он пропустил первую серию и начнет смотреть со второй — естественное опасение при создании всякой многосерийной вещи.
Итак, мы хотели в начальном эпизоде, не напоминая сюжета предыдущей серии, настроить зрителя на время и героев картины.
И вот тот же двор военного училища, в тот же день, но только спустя тридцать пять лет. Посреди — крытая полуторка. Строй молоденьких солдат. Военный оркестр. Все точно так же, как на маленькой фотографии сорок второго года.
Правда, там окна заклеены бумажными крестами. Клеить или не клеить? Решаем — не надо. Символы могут быть, инсценировки быть не должно.
А вот двадцать девять солдатских вещевых мешков прошу положить на землю. Двадцать девять... Но придут сейчас сюда лишь девять человек, оставшихся в живых.
Оркестр играет «Прощание славянки».
Они выходят из-под арки, идут на середину площади. Издали лиц не видно. Не знаю, какое на них производят впечатление эти стены, ведь они впервые здесь после того часа.
Остановились у вещевых мешков. Каждый на своем месте. Вот теперь я вижу их лица. Ветер бьет по глазам. Длинные синие тени лежат на снегу.
«Сороковые, роковые, Свинцовые, пороховые...».
Камера медленно движется от лица к лицу. Когда кончается ряд живых, над осиротелыми солдатскими мешками возникают фотографии тех, кто не вернулся с войны.
«Война гуляет по России, Война гуляет по России... А мы такие молодые!»
Несколько минут они стояли молча. Молча вглядывались в лица молоденьких ребят в военной форме. Уже оркестр перестал играть. А оператор все снимал. Нам казалось, что мы впервые видим наших героев так близко...
Кабинет Прудникова. Михаил Сидорович раскрывает дневник и рассказывает:
— Я понимал, что беру на себя большую ответственность, делая эти записи. Но были предприняты некоторые меры предосторожности. Дневник хранился у меня вместе с другими самыми важными документами, в том числе и шифровальной таблицей, в специально подготовленной сумке. (Показывает сумку.) Сумка была заминирована. Устройство было сделано так, что человек несведущий при открытии этой сумки взорвался бы сам и, естественно, взорвались бы эти документы...
Существовал строжайший приказ, запрещавший вести дневники на фронте. Поэтому такого рода записей сохранилось от того времени очень мало. Дневник Прудникова стал для нас не только опорным документом, источником фактов. В нем — что не менее дорого — передана атмосфера времени, которому посвящен наш рассказ.
Действие фильма переносится в белорусские леса, вблизи от Полоцка, куда после труднейшего многодневного перехода попали наши герои. Тогда, весной сорок второго, это был глубокий тыл врага. Звучат дневниковые записи:
«28 апреля. Остановились в лесу. Все мокрые. Ноги красные, окровавленные. Костры разводить нельзя, сразу заметят. Отвлечься бы куревом — нет табаку. Мох курить надоело...
30 апреля. Всю ночь и день были в окружении. Фашисты все накапливались вокруг леса, где мы были, потом открыли огонь из минометов. Надеялись, что мы бросимся бежать, а они переловят нас, как котят. Вечером вышли болотами из кольца там, где они не предполагали, что пройдем...»
Спустя несколько дней в дневнике появляются короткие записи о первых диверсиях, которые удалось провести отряду.
В фильме эта хроника составит как бы фон, на котором будут развернуты конкретные эпизоды партизанской борьбы, рассказанные нашими героями. И каждый раз мы будем включать свою камеру в том месте, где действительно происходили описываемые события, и на той минуте, которая позволяет представить человека в состоянии максимального напряжения всех душевных сил.
Отряд приступил к выполнению боевого задания. Бойцы пускали под откос эшелоны с техникой и живой силой противника, уничтожали вражеские комендатуры, взрывали склады. И каждая операция требовала от них предельной самоотверженности. Ведь они были оторваны от линии фронта сотнями километров, не имея первое время ни регулярной связи с Центром, ни достаточного количества боеприпасов и даже продовольствия.
Не наладив еще контакт с местным населением, командир пока прятал отряд на озере Зверином. Положение было тяжелым. В этот момент в лагерь явился мальчишка лет пятнадцати — Петр Лисицын.
Лисицын:
Помню, Сидорыч меня пригласил сесть на один из ящиков. Затем поднес свечу поближе — так, чтобы видеть мое лицо,— и говорит: «Ну, рассказывай! Кто тебя к нам прислал?» Ну, я подумал, что он это в шутку. И тоже пошутил, что, мол, немцы...
На фотографии — жесткое лицо командира отряда.
— ...Когда я расплакался, Павлюченкова дала мне кусочек хлеба с маслом. Сидорыч в этот момент вышел зачем-то из палатки. Потом он вернулся и продолжал допрашивать. Есть я этот бутерброд в присутствии Сидорыча не стал. Держал в руке за ящиком. Не знал, что с ним делать. А потом, на бутерброде было больше масла, чем хлеба. Я стал это масло незаметно счищать. Сидорыч заметил какие-то непонятные для него движения и как вдруг закричит: «Встать! Руки вперед!»
Только в результате заступничества комиссара и медицинской сестры Петя Лисицын был оставлен в отряде.
Эта драматическая сцена в пересказе Лисицына наполнена массой живых деталей. Эпизод очень важен и для раскрытия образа командира и для передачи атмосферы жизни отряда в тот период.
И все-таки у меня осталось такое чувство, что сцена не «сыграна» до конца. Чего-то в ней не хватает. Одного рассказа Лисицына и нескольких планов развалившейся землянки, мне думается, здесь оказалось маловато.
Может быть, есть ситуации, полноценно воссоздаваемые только в игровом фильме? Может быть, художественно-документальная картина не должна начисто отказываться от актера в кадре? Может быть, специфически снимая его, подчеркивая условность включения «недокумента» в документальную историю, можно добиться большей выразительности, не снизив достоверности? Не знаю.
А вот в другом случае с тем же Петром Лисицыным производит впечатление именно чистая документальность. По краю заброшенного хутора растерянно бродит человек. То и дело останавливается, оглядывается по сторонам. Глаза колючие, худощавое лицо мрачно. Я знаю, что ему хочется найти какие-нибудь приметы того канувшего в Лету дня.
Тут где-то стоял дом его отца, был сад. Но столько времени прошло с тех пор — дороги пролегли иначе, деревья выросли, постарели, как сам человек, и теперь по чужому смотрят на чужого...
И все же он угадывает сердцем это место' и волнуется все больше. Тогда-то мы и включаем синхронную камеру.
— В партизаны я ушел двадцать восьмого мая, когда мне было, пятнадцать лет и неполных три месяца. Вот с этих вот земель... Ушел из дома, можно сказать, по-воровски. У меня не было возможности открыть проститься с матерью, с отцом. Я только мысленно простился... взглядом. Притом я уже тогда думал, что, может, это последняя наша встреча... Взял свидетельство об окончании шести классов Булавской неполной средней школы, взял свидетельство о рождении... Ну и пошел. (Долгая пауза, он пытается с собой справиться.) Действительно, отца я больше не встретил. Через два месяца его расстреляли...
Он не сказал: «Отца немцы расстреляли из-за меня». Но он так подумал. Потому что думает об этом всегда. Гибель отца — вечный укор его совести. И это необычайное душевное напряжение врывается на экран через интонацию, через внезапную паузу, через сухие от долгого страдания глаза...
Можно ли было снять монолог Лисицына где-нибудь в другом месте? Нет. Не получилось бы.
Мы снимали его какой-нибудь час, а готовились к этому эпизоду несколько дней. Заранее вызвав из другого города нашего героя, мы говорили с ним о чем угодно, только не о том, что собирались снимать. Конечно, я хорошо знал историю Пети Лисицына и много раз пытался представить себе этот его рассказ. А вспомнить, как он уходил в партизаны, попросил словно бы невзначай, когда мы «случайно» оказались да заброшенном хуторе. Нам помогло в тот день и хмурое небо над головой.
Низко стелются тучи. Гнутся по ветру травы. Потерянно застыла фигура человека. Застыла от боли. Здесь был его дом. Вьют свои гнезда журавли над обездоленным хутором.
Пролился дождь — будто застонала, заплакала земля... Так пластически завершается этот эпизод.
В мае сорок второго года, как явствует из дневника Прудникова, в отряд пришли крестьяне из расположенных неподалеку деревень.
Мы показали этих людей еще в самом начале фильма, в прологе. Они стояли на краю дороги — торжественные, по-праздничному одетые, при медалях, ожидая своего партизанского командира и боевых товарищей. Крестьянские лица светились гордостью. Встречали по обычаю — хлебом и солью.
К ним шла колонна пожилых, штатских нынче людей, сохранивших, однако, военную выправку.
И когда два людских потока, две силы соединились, был праздник!..
Из серии в серию мы повторяем этот пролог. В нем видится нам символ войны народной, войны отечественной.
Как же происходила встреча московской группы особого назначения с населением белорусских сел в далеком 1942 году?
Мы старались воссоздать ее со всеми бытовыми подробностями.
Однажды в селе Щаперня усадили окрестных мужиков на бревнышках перед домом и стали их расспрашивать. Они вспоминали и вспоминали, перебивая друг друга, чтобы дополнить, рассказать получше, понагляднее, поподробнее.
— Сперва было опасно. Или полицаи пришли, или наши. Очень трудно было узнать...
— Ночью придут, постучат в окошечко. А кто пришел? Тут-ка уже не располагаешь языком ни в ту сторону, ни в эту...
— Як своих увидели! Ведь не надеялись, что так может совершиться... Что вот наши придут и будут нас организовывать бить врага на месте. Они нам сразу сводку дали... Что наши борются. Не забрал немец Россию, как тут балакали. Что Москва живет...
— Тут уже нам дух подняли. Мы тут уж решили, и безо всякой там робости все пошли в отряд...
— Назавтра достали оружие. У всех припрятано было. Прямо аж смотреть любо, кто с наганом, кто с ружьем...
— Главное, сосед соседа не знал, что у него оружие есть. Когда коснулось, почти все понаходили. Старик один, ему за семьдесят было, утром принес два нагана и пулемет. В колодце хранил...
— Пришли вот сюда, в Щаперню. Сели. Командир говорит: «Вот вам задача — тут будете жить и работать. Помогать Красной Армии. Рвать, палить, разбивать — вредить врагу».
Крестьянские рассказы о войне было легко снимать. Люди держались открыто и естественно. А события партизанской жизни сохранялись в их памяти прочно, потому что остались для них главными. Искренность, часто даже наивность этих рассказов давала живое представление о добродушном и милом народе.
Первый партизан:
Ходили мы, ходили — никак нельзя было поезд спустить. Охрана туда-сюда. Не пройдешь. Тогда мы к самой казарме пришли. Там переезд у казармы рядом. Залегли. Вот они вышли, папироски в зубах — пых, пых. А мы тут лежим, ну пятьдесят метров до них. Лежим. Як они только мимо прошли, мы сразу ползком, ползком — и раз под рейку, значит. Сразу капсуль вставили, натянули шнур. А поезд уже идет — чуху, чуху, чуху...
Второй партизан:
- Я, значит, дёрг этот кабель. Та-а-а-к. Сразу — чжжж! Паровоз этот с рельсы кувырк! И пошло, и пошло! Вагоны кувырк в сторону, кувырк в сторону...
Сюжеты в этих рассказах просты. Но они, на мой взгляд, дали картине народный колорит, помогли отразить на экране сущность начавшейся в тылу врага крестьянской войны.
На высоком берегу Западной Двины стоит покосившийся старенький домик. В нем живет одинокая женщина, Анна Дмитриевна Шерстнева. Во время войны она была подпольщицей, перевозила партизан через реку, постоянно рискуя жизнью. Сейчас Анна Дмитриевна вспоминает об этом озорно и весело, как о забавном приключении:
— Слышу свист с той стороны. Я отвечаю пароль. Они отвечают мне. Думаю: «Ну гад... Кто ж там есть?» Там же немцы... Ну, я тихонько переплыла. А это Валька с Эдуардом. Как они там прошли?..
Ну, погрузились и только выгребли, как же открыли по нас огонь!.. (Смеется.) Решетят лодку, и всё. Ребята говорят: «Ложись на дно». Ну як ложись? А ночь темная. Но все равно видать лодку, как она по Двине идет... Смотрю, а Валентин уже купается. И я говорю ему: «Вот вам душ московский». А он мне говорит: «Ничего, солнышко партизана высушит». Смешно так! Вылезли мы на берег, ребята и говорят: «Дадим-ка и мы сдачи». А что я тогда понимала? Мне девятнадцать лет было. А что? Думала, немцы подстрелят? Я этого и не думала. Я думала, как бы его подхитрить и подстрелить. А про себя — так это неправда!.. Ну вот, не уловили меня и не подстрелили. А им дали! Больше они на нашу землю не пойдут, я так думаю.
Она рассказывала всю историю в лодке на берегу реки. Рассказывала с такой радостной, нерастраченной силой, с таким свободным, выразительным жестом! Ее по-крестьянски неправильная речь коробила потом некоторых редакторов. А я как раз люблю эту живую неправильность. Для меня, признаться, монолог Шерстневой звучал как музыка.
Летом в партизанский отряд стали приходить военнопленные, бежавшие из фашистских лагерей. Сначала к ним отнеслись с недоверием. Ведь надо помнить, как воспринималось в те годы слово «пленный». Это особая страница прошлой войны.
Побывавшие в фашистском плену воины, с которыми нас свела картина, вызывали глубокое сочувствие и уважение. Это были люди трагической и героической судьбы. И нам хотелось уделить им в фильме особое внимание. Гриненко:
- Самый тяжелый день в жизни у меня был 12 октября 1941 года. Десятый день мы выходили из окружения, и попали прямо под танковую колонну. Орудия у нас были уничтожены. У меня от батареи осталось одиннадцать человек. И вот мы прорываемся. Пятый раз идем в атаку. А нас все время бьют, бьют...Во время бомбежки теряю сознание. Прихожу в себя — меня комиссар тянет на себе. И где-то мы уже у какой-то дороги. Я еще плохо слышу, но вижу. И говорю ему: «Куда мы идем?» Он говорит: «Вот уже через дорогу перейдем и будем у своих».Залегли. Это уже вечер был. И когда мы броском через дорогу перескочили, напоролись на немцев — мы их в кювете не видели. Начался рукопашный бой. Я опять потерял сознание. Когда я пришел в себя, у меня были уже вывернуты карманы. Кругом лежали убитые, раненые. Вокруг стояли немцы.
У меня была только одна мысль: как могло случиться, что я остался жив? Как я смею жить? Почему не погиб? Какое я имею право?..
Большой, красивый человек с седой как лунь головою не выдержал и заплакал.
- ...А потом был плен. Был этап через Вязьму, Смоленск, Витебск... Двадцать пять тысяч было в лагере. Осталось в живых, может, две тысячи. И все хотели бежать, стать партизанами, солдатами, хотели снова бороться с фашизмом.
В фильме подробно воссоздана история одного такого героического побега — история А. С. Меркуля (о нем речь впереди).
У документалистики, когда она обращается к столь драматическим темам, есть, мне кажется, свои преимущества перед театром и игровым кино,— если, конечно, в документе запечатлена абсолютная правда. Мы стремились к ней, снимая воспоминания бывших военнопленных, бывших партизан.
Заканчивается вторая серия общим построением всей партизанской бригады на окраине белорусского села. Командир проводит перекличку по отрядам. Бойцы стоят по-военному, отвечают четко и громко.
— Отряд Гриненко!
— Здесь!
— Отряд Меркуля!
— Здесь!
— Отряд Якимова!
— Здесь!
Уходит время. Уходят люди.
— Отряд Александрова! — произносит командир. И стоят только два Человека.
— Здесь!..
А потом мы видим уже одно лицо — лицо партизана, отлитое в бронзе памятника... И снова гремит марш «Прощание славянки»...
«Лицом к лицу» — третья серия.
Начинается она событиями осени сорок второго года. К этому времени была уже образована партизанская бригада из шестнадцати отрядов. Партизаны контролировали целые районы, восстанавливая в тылу врага советскую власть. Фашисты бросили против них регулярные части. В городах и деревнях зверствовало гестапо.
В дневнике Прудникова есть такая запись: «14 октября. Получил письмо от заведующего банком города Полоцка, который работает по нашему заданию».
Это была последняя весть от Федора Николаевича Матецкого. Через некоторое время партизаны узнали, что гестапо арестовало Матецкого и его жену Нину Ивановну. После пыток и издевательств их расстреляли на окраине Полоцка. Однако несколько дней спустя Нина Ивановна Матецкая, чудом уцелевшая, пришла в партизанский лагерь.
Нам предстояло снимать человека, пережившего свою смерть.
Снимали на месте расстрела, в глубоком овраге.
Матецкая:
- Когда машина пошла, мы, конечно, не знали, куда нас везут. Только слышали, что хлопают ветки по кузову. Потом машина остановилась. Открыли задний борт и по одному человеку стали вызывать из машины. Когда я вышла из машины вот сюда, здесь была большая яма вырыта. В яме я увидела тела расстрелянных. Лежали трупы. Я увидела труп своего мужа... Этот немец, который стоял с правой стороны, ударил меня валкой по затылку. А этот, который стрелял, видимо, запоздал с выстрелом. Когда меня палкой ударили, голова зашумела, зазвенела, как будто по чугуну ударили. И я руки вот так приподняла... И у меня под ногами растворилась почва...
Эта удивительная женщина с глубоким шрамом на лице рассказывала спокойно, не пропуская ни одной подробности. Вспоминала, как очнулась, услышала, что машина с фашистами уехала прочь, как, преодолевая страшную боль, вылезла из ямы и несколько дней добиралась по лесу до партизан. Эпизод заканчивается записью в дневнике командира, откуда мы узнали, что Матецкая в первый же день попросилась на выполнение боевого задания.
Вначале мы попытались снять монолог Матецкой летом, в яркий солнечный день. Ничего не вышло, хотя слова были точные и информация об этом страшном событии полной. В рассказе не было передающейся зрителю взволнованности.
Потом, поздней осенью, в непогожий день мы снова приехали в этот овраг. Долго ходили с Ниной Ивановной по его песчаному дну. Молчали. Корни сосен по краю оврага извивались у нас над головами. Невольно думалось, что вот эти деревья были здесь и тогда, все видели и слышали. Нина Ивановна показала на шрам свой и сказала: «А пуля вот так прошла. Еще бы чуть-чуть — и все...»
Потом она рассказала свою историю второй раз. И во второй раз было больше правды, чем в первый. Я не могу назвать это дублем.
От автора:
Каждый день война пытала людей голодом, холодом и страхом. Обнажала все доброе в человеке и все злое. Да не в отдельном человеке, а в целом человеческом общежитии. На краю пропасти, между жизнью и смертью, отлетало все мелкое, наносное — и проявлялось самое существо человеческое. Не с врагом лишь, не с другом — с самим собой вставал человек лицом к лицу.
С тех пор прошло несколько десятилетий. Можно сказать, целая жизнь. И было в этой жизни у каждого из наших героев с три короба радостей, с три короба всяких горестей... Обыкновенная человеческая жизнь. Но мерилась и строилась она в зависимости от тех, считанных войной дней. И судьба командира, и судьба всякого воина в отряде.
Была у них любимая песня, бесхитростная по словам, простая по мелодии. В картине спели нам её супруги Меркуль Евдокия Егоровна и Анатолий Семенович:
«В темной роще густой
Партизан молодой
Притаился в засаде с отрядом.
Под осенним дождем
Мы врага подождем
И растопчем фашистского гада.
Ни сестра, ни жена
Нас не ждет у окна,
Мать родная нам стол не накроет.
Наши семьи ушли,
Наши хаты сожгли,
Только ветер в развалинах воет...»
Они пели тихо, в лад, для себя, вспоминая, видно, то, что спрятано глубоко за этой песней и никакими словами не может быть высказано.
Евдокия Егоровна:
- Наша молодость была трудной. Вам этого не понять. Но все равно — были молоды, хотелось кому-то нравиться, хотелось быть красивыми... То же и ребята, наверное, думали...Знаете, мы ведь в лагере и танцы устраивали. Не современные танцы, раньше-то совсем не такие были. И хотели, чтобы умели танцевать наш комиссар и командир. Но они, ни один ни другой, не могли. Пригласим солдата, говорим: «Поиграй нам. А мы их поучим». А они — никак. Вот этот командир до сих пор не танцует. (Смотрит на мужа.)
Анатолий Семенович:
В окрестных деревнях начал свирепствовать тиф. Всех медсестер послали па борьбу с тифом. И она где-то зацепила сыпняк. Слегла. Лежала она, конечно, долго. Первое время я ездил ее навещать. Не как жену, а просто как своего партизана. Ну вот, навещал, навещал... и привык. Говорю: «Ну, давай будем мужем и женой». Какой муж!..
Евдокия Егоровна:
- Я говорю: «Какое замужество? Ну, как это можно — на войне выйти замуж?..»
Анатолий Семенович:
- Еле уговорил.
Евдокия Егоровна:
- Потом он написал рапорт командиру бригады.
Анатолий Семенович:
Долго Прудников думал. Потом через месяц все же разрешил. Приехал комиссар Глезин. Он у нас был и сватом и регистратором. И поздравил и рюмку выпил. Но «горько!» не крикнул. Борода у него рыжая была. Видно, в бороде и застряло это слово. Или почему побоялся «горько!» крикнуть?..
Иногда в синхронном рассказе явится вдруг такая деталь, которую надо обязательно подчеркнуть. Вот и мы именно здесь решили напомнить историю Меркуля.
...Это было еще до партизанского отряда, в армии, оказавшейся под Вязьмой в окружении. Командир развед-взвода стрелковой дивизии лейтенант Меркуль получил задание пробиться сквозь вражеское кольцо и сообщить командованию фронта направление и час прорыва из окружения всей армии. Меркуль выполнил задание, а на обратном пути был тяжело ранен. Командарм, выслушав доклад лейтенанта, заметил: «Не думал, что ты вернешься назад, в окружение...» И приказал отправить раненого Меркуля первым же самолетом за линию фронта. Но самолета больше не было...
Потом плен, героический побег, о котором мы рассказали во второй серии, командование партизанским отрядом...
В тот год было пережито столько, что хватило бы на несколько жизней. Оттого, видно, и не решился комиссар крикнуть «горько!» на свадьбе.
Мы снимали весь эпизод в маленьком саду под Минском. У нас не было никаких дополнительных материалов, кроме двух фотографий лейтенанта: одна довоенная, сорок первого года, другая — сорок пятого. Но зато с этих фотографий смотрели на нас разные люди. Нет, лицом они были похожи, но глаза... Совсем другие были глаза у человека, пережившего войну.
Еще в изобразительном решении эпизода нам помогла калина. Меркуль сидел на лавочке и говорил спокойным голосом. Только рука с папиросой слегка дрожала, и над головой кровавились красные ягоды спелой калины...
Супруги Меркуль — добрые, ласковые люди. У них уютный дом, большая теперь, дружная семья. Нам все время казалось, пока мы снимали, что история, ими рассказанная, случилась с другими людьми, может быть, на другой планете...
Знакомя зрителя с боевыми операциями партизан, мы все-таки старались сосредоточить внимание не на военных результатах (это был бы совсем другой фильм), а на душевной стороне жизни наших героев.
Об отважной разведчице Ольге Масюковой нам рассказали такой случай:
— Однажды в начале сорок третьего нам пришлось переходить полотно железной дороги под сильным огнем противника. Один парень вдруг закричал: «Братцы! Меня ранило!» Двое ребят бросились к нему и тащили до самого леса. В тот раз с нами как раз Ольга была, наравне бежала. Когда отошли в безопасное место, осмотрели рану у парня — легкая царапина, только и всего. А вот у Ольги в этом бою обе ноги были прострелены, но она никому не сказала. Сама до леса добралась, а потом сознание потеряла, от потери крови. Такой это силы человек...
Ольгу Митрофановну мы разыскали на одной из строек. Она работала сварщицей, и никто здесь не знал ее военной биографии.
Отложив в сторону сварочный аппарат и маску, бывшая разведчица вспоминала партизанское прошлое и своих боевых друзей. Много волнующего услышали мы от нее. Но для картины выбрали одну историю.
— Надя была веселая, хорошая девочка. Ей не было даже еще семнадцати лет. Когда мы выполнили задание и шли обратно, нарвались на засаду. Нас обстреляли. Они, конечно, могли взять нас в плен, но нас ребята встречали. И ребята открыли ответный огонь. Надя бежала первая, я бежала вторая. Но каким-то путем пуля прошла мимо меня. Меня не задела, а Надю... задела. В нашем отряде тогда врачей не было. И Надя знала, что она умрет... Я не могу больше рассказывать...
Мы не выключали камеру все время, пока Ольга Митрофановна собиралась с силами, чтобы продолжить рассказ.
— ...И вот она просила: «Застрелите меня... застрелите...» Но все надеялись, что, может быть, совершится какое-то чудо, ребята найдут врача... Мы то вынесем ее из землянки на улицу дышать свежим воздухом, то обратно в землянку несем... Потом она взяла меня за руку и говорит: «Только не отходи... Только не отходи...» А когда почувствовала, что уже ноги холодеют, последнее, что она сказала: «Хоть бы узнать, как с парнем поцеловаться...»
Для чего мы так безжалостно собрали в этом фильме плачи людей? Зачем заставили их снова мучиться горестными воспоминаниями? А затем только, что полагали необходимым сохранить бесценный капитал, добытый в войну солдатским поколением,— способность сочувствовать и сострадать. Что другое может противостоять прагматизму? Что другое способно растить в человеке душу, укреплять бытие подлинно человеческими отношениями?
В картине участвуют двадцатилетние — нынешнее поколение молодых. Они присутствуют в основном на роли слушателей, как часть той главной зрительской аудитории, к которой обращен пафос рассказов наших героев. Конечно, мы и не пытались рисовать образы современной молодежи, не сопоставляли впрямую два разных поколения. Но старались показать то, что может волновать юношей и девушек сейчас.
Жизнь во все времена ставит человека перед выбором: я или другой, поступать по совести или исходить из соображений личной выгоды. Только в те времена выбор был особенно жестким: часто он оборачивался вопросом — жить или не жить?
Во второй серии говорилось о том, как пришел в отряд пятнадцатилетний Петя Лисицын. Через два года на его боевом счету уже было двадцать два подорванных эшелона. Но однажды небольшая группа, в составе которой он пошел на операцию, наткнулась на засаду...
Лисицын:
- Немцы резанули нас в упор из пулемета. И сразу разбили на две группы. Одна ушла влево от линии огня, а мы с Васей Кудриным бросились вправо. Почти вот добежали до самого леса... И тут Васю ранило...
Вспоминая, Петр Лисицын все представляет себе настолько точно и живо, как это бывает, пожалуй, только у больших актеров. В нем нет никакого лицедейства. Он мучается и переживает то, о чем говорит, глубоко и серьезно. И при этом сохраняет всю подлинность и достоверность документального свидетельства.
Наша техника притаилась где-то в другой комнате. Лисицын не замечает ее и рассказывает мне:
—- Он весь горит, светится, этот лес. Пули жикают над головой. Ракеты. Надо пригибаться, ползти, а тут раненый... Я не мог его бросить. И оставаться не мог, потому что знал: немцы по следу идут. Стал тянуть на себе. Тянешь, тянешь, упираешься, жмешься куда-то в снег, чтобы как-то уйти от этого огня, от этих пуль. Понимаете! И тогда... Тогда я подумал: «Ну что ж, смерть так смерть... Ведь умирают же другие. В конце концов, и ты когда-нибудь должен умереть». Вот таким рассуждением как-то облегчаешь свое душевное состояние.
А с другой стороны, ведь и радость. Радость, потому что эшелон-то мы все-таки взорвали! Теперь бы спастись... А спастись нельзя — на руках убитый почти что человек...
Я его тянул до конца. А после, в лесу уже, стал кричать: «Димка!.. Димка!..» Командира звал. Во весь голос кричал. Потому что думал: немцы услышат — черт с ними!.. Я же не могу пропадать здесь с человеком. И уйти не могу. И бросить не могу... Вот так мечется человек как окаянный, а сделать ничего не может. Кричу на весь лес: «Димка!.. Дим-ка!..»
Лицо Петра в этот момент бледнеет, становится страшным, на глазах выступают злые слезы.
— Как-то он меня все-таки услышал и пришел. Потом мы вместе тянули Кудрина еще по лесу до самой деревни... А потом Вася умер. Похоронили мы его по-солдатски. Молча постояли и пошли...
Мы снимали этот эпизод в комнате, намеренно, исключая всякий фон, вырубая светом из темноты только лицо рассказчика. Потом на натуре попытались воспроизвести атмосферу события. Оператор Марк Пинус снял кадры ночного леса изобретательно, с использованием пиротехники, в сложном движении. И все-таки реальное ощущение события зрительно передавали больше всего глаза Петра Лисицына.
Когда документ обладает такой эмоциональной силой, ему не обязательно искать дополнительные пластические подпорки. Я даже думаю, что в подобных случаях мы по способу выражения ближе к театру, нежели к традиционному кинематографу.
Разумеется, мы не писали никаких ролей Петру Лисицыну, не обсуждали с ним исполнительских задач. И все-таки мы работали с ним над образом. Можно ли сказать, что мы воссоздавали образ мальчика-партизана? Пожалуй, нет. Да это было бы и не в наших силах. Скорее, мы пытались наиболее полно воспроизвести взгляд сегодняшнего Лисицына на того, юного.
Вообще, снимая эту картину, я сам не сразу понял, что делаю ее не о прошлом, а о настоящем. Прошлое лишь провоцирует проявление нынешних взглядов и настроений наших героев, так что на экране, в конце концов, складывается их сегодняшний образ.
Документальный фильм — это фильм в настоящем времени даже тогда, когда избирается сюжет о прошлом. Так мне теперь представляется.
Зимой 1943 года фашисты предприняли самую крупную карательную экспедицию против партизан. (Нашлась немецкая кинохроника об этом.) Бригада вынуждена была вести бои, постоянно меняя место расположения. В одном из отрядов находились четверо тяжелораненых и больной тифом. Они идти не могли. Тогда в лесу, в замаскированной землянке с ними добровольно осталась медицинская сестра.
Когда мы встретились с Еленой Фоминичной Семчёнок, то поначалу растерялись. Нам показалось, что теперь, после стольких лет мирной жизни, Елена Фоминична сама как бы стала другой. Сможет ли она вернуться хотя бы отчасти в свое прошлое, вступить с ним в душевный контакт? Ведь без этого монологи-воспоминания в картине утрачивали смысл.
Мы отыскали в лесу полу развалившуюся землянку. Собрали девушек из медучилища, того самого, которое когда-то, еще до войны, окончила Лена Семчёнок. Мы рассчитывали, что обстановка и аудитория помогут рассказу. Но сначала ничего не получилось. Девушкам трудно было прочувствовать увиденное.
Вероятно, их равнодушие задело за живое Елену Фоминичну. Она вдруг расплакалась. Потом немного успокоилась, и мы стали снимать. Вот один эпизод из ее рассказа:
— Они прочесывали лес, собаки были с ними. Лай собак, выстрелы... И все это ближе и ближе к нашей землянке. Саша, мой сыпнотифозный, кричит: «Я хочу клюквы!..» А второй Саша, который был в голень ранен осколком, в бреду стонет: «Сестричка, дорогая, ну помоги, прошу тебя... Не сумеешь помочь — убей! Убей меня...» А что я могу? Инструментов нет никаких. Температура нарастает. Нога как бревно. У Салашенки Вани бритва была. Ладно... Пришлось принимать миссию хирурга. Взяла йод, смазала. А света нет. Надо ведь свет, чтоб оперировать. Зажгли, значит, сало, небольшой фитилечек. И стала делать операцию.
А фашисты, слышим, ну совсем рядом. Над головой топчутся. Что делать? А у нас один автомат и одна граната. Ваня Салашенко, такой мужественный человек... Правда, ему трудно подниматься было. Так я ему тряпку за бревнышко привязала, от простыни оторвала. Теперь он мог подтянуться и сесть. Он, значит, и говорит: «Ты бери гранату. Это будет граната для нас всех. Живые все равно не сдадимся. А я сяду против дверей и ни одного гада не пущу сюда...»
От автора:
Беспрерывно сорок два дня находилась на боевом посту медицинская сестра. И живут на свете пять человек, спасенных ею тогда...
Стояли в полоцком лесу возле полуразрушенной землянки молоденькие девчата из медучилища. Слушали Елену Семчёнок. В годы войны она была их ровесницей. Герой вашей картины — очень разные люди. Но все они, как нам казалось, естественно объединялись в одно поколение. И цельность его происходила от того, что в военные годы общие устремления наиболее точно совпали с нравственными установками отдельной личности.
Это было свято верующее поколение. Потому-то они и не считали себя жертвами тягчайших обстоятельств, а готовы были к добровольному самопожертвованию. Тайное представление руководило нами в работе над картиной, служило определяющим моментом в выборе героев и эпизодов.
Они воевали в партизанах долго почти семьсот пятьдесят дней и ночей, пока летом сорок четвертого наша армия не освободила Белоруссию. И в эти последние дни своей партизанской войны они делали все возможное и невозможное, чтобы помочь наступлению наших войск.
Мы долго искали кадр, который вместил бы в себя героизм и муку тех завершающих дней. Была скупай кинохроника: участие партизан в освобождении Белоруссии, партизанский парад в Минске... Но эти кадры сами по себе не могли разрешить то внутреннее напряжение, которое накапливалось в картине на протяжении трех серий.
И вот однажды мы были у Станислава Ивановича Пристрельского, довоенного председателя колхоза, человека, который привел первых крестьян в партизанский отряд. Говорили, вспоминали... Вдруг он взял старенький баян и неожиданно для всех стал играть. И такое сделалось у него в тот момент лицо. Пальцы крестьянские не всегда слушались. Но была в той песне такая правда, что никакими словами не сказать...
Хорошо, что наша камера оказалась легкой на подъем. Мы эту песню сняли.
Долгая и тяжкая война кончалась.
Последний ее год герои картины воевали в регулярные частях Советской Армии, штурмовали Варшаву, Прагу, Берлин... А потом с победой возвратились домой.
Но даже само радостное возвращение часто становилось для них глубоким душевным потрясением. Об этом в заключительном эпизоде картины рассказывает бывший командир одного из партизанских отрядов Александр Дюжин. Вот он стоит на краю спелого поля, седой полковник, пытаясь сдержать накатившее волнение, вспоминает:
— 27 июля я прибыл из Москвы в Тулу. А уж из Тулы попутными машинами поехал на родину к родителям, в Киреевск. Не доезжая до города, слез с машины и пошел пешком. Там была проселочная такая дорога вдоль поля. Рожь созревала. Меня вдруг такое волнение встревожило... Думаю: вот сейчас приду, а родители ведь знают, что я на фронте погиб. Три года я отсутствовал, переписки то не было никакой, когда я в тылу врага воевал. До самого вечера стоял в поле, так и не решаясь идти. А как стемнело, пошел. По дороге никто меня не узнал. Одет я был в кожаную тужурку. Так в партизанской форме и шел...Подошел к своему дому. Посмотрел в окно. Все собрались в комнате. У меня ведь четыре сестры, три брата. Я стучаться не стал. Открыл входную дверь, разделся... Потом... Мать заходит в сени, мимо меня прошла с ведром молока. Она меня не узнала. Может, думала, кто другой пришел? Потом... Я вышел на свет в комнату. Тут все мои братья, сестры кинулись... отец... мать... Стали плакать...Не могу больше рассказывать.
Закрыл полковник глаза рукавом. Камера в смущении отвернулась к полю. Тихо стало.
И вдруг грянул победный марш, и помчались ликующие поезда с фронта домой. Поезда. Вокзалы.
Монтажно продолжает эти кадры хроники встреча наших героев на вокзале в Полоцке через тридцать с лишним лет. Крепко обнялись ветераны великой войны. Будто застыли. А потом медленно, торжественной чередой пройдут они по бесконечной лестнице Кургана Славы. Мы будем долго вглядываться в эти лица. Сначала сухо и грозно зазвучит голос боевого барабана. Потом в такт ему марш «Прощание славянки». Сотни голосов, подхватив мелодию марша, понесут ее вверх все яростнее и шире, будто рождена она этим молчаливым торжественным строем...
От автора:
В стылых землянках, у слепых костров, на краешках непроходимых болот, в самых отчаянных ситуациях они верили друг другу. И это осталось у них навсегда.
Сколько бы ни прошло лет. Сколько бы ни прошло лет!..
Наверно, как и в каждой картине, есть «Частной хронике времен войны» свои удачи и свои просчеты. Судить о них нам, участникам съемочной группы, трудно, потому что для всех нас это была не просто работа, а исполнение душевного долга. И остыть, отодвинуться на расстояние от нашей картины мы пока не смогли...
|
| Категорія: Спектакль документів | Додав: koljan
|
| Переглядів: 473 | Завантажень: 0
|
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі. [ Реєстрація | Вхід ] |
|
|



