Статистика
Онлайн всього: 1 Гостей: 1 Користувачів: 0
|
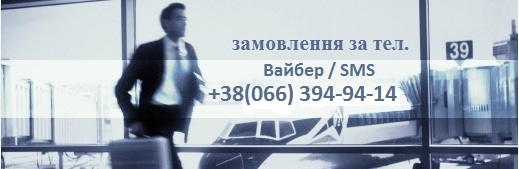 |
Матеріали для курсової |
КЛЮЧЕВОЙ ПОРОГ
|
| 22.04.2014, 17:51 |
| Рассказывая об одном из своих замыслов, Чехов признавался:
— Цель моя — убить сразу двух зайцев: правдиво ; нарисовать жизнь и кстати показать, насколько эта жизнь уклоняется от нормы. Норма мне неизвестна, как неизвестна никому из нас. Все мы знаем, что такое бесчестный поступок, а что такое честь — не знаем. Буду держаться той рамки, которая ближе сердцу и уже испытана людьми посильнее и умнее меня. Рамка эта —
* См. журнал «Bianco e Nero», 1960, № 1—2.
175
абсолютная свобода человека, свобода от насилия, невежества, черта, свобода от страстей и проч.*.
Это поэтическая, а не политико-этико-моральная программа. Даже в таком абстрагированном виде понятие нормы стало для Чехова средством изложения авторской точки зрения на происходящее, вынесения ему приговора.
Герои всей дочеховской драматургии вступали в борьбу с тем или иным локальным, конкретным явлением, мешающим их благополучию. Чаще всего это явление было персонифицировано в лице антигероя: зло в таких произведениях имело имя и фамилию. И драма могла, следовательно, кончиться или торжеством героя или его гибелью. Третьего было не дано.
Благополучию чеховских героев мешает не тот или иной человек и даже не то или иное конкретное явление жизни, а весь ее ход, весь установленный порядок. Это обстоятельство не дает конфликту приобрести динамический характер, характер событийной организации сюжета. С другой стороны, это обстоятельство предопределяет и характерные финалы чеховских драм. Грустная интонация этих финалов неизбежна, — ибо сила, выступающая против героя, слишком всемогуща. Но неизбежна и светлая интонация, пронизывающая концы чеховских пьес, — ибо та «норма», о которой мечтают герои, гармония человеческих потребностей и окружающего жизнепорядка, в конце концов неотвратима.
И любопытно, что чеховская двойственность финалов педантично сопровождает фильмы без интриги.
Мы находим ее в «Голом острове». Вот потрясенная смертью сына женщина начинает в припадке ярости рвать и топтать ростки, пьющие ее труд с утра до ночи.
* А. Чехов, Собрание сочинений, т. 11, М., Гослитиздат, 1956, стр. 347.
176
Но тут суровый муж посмотрит на нее со всей нежностью, на какую способен, а еще потом они примутся, как прежде, размеренно и безостановочно обрабатывать свою землю. Подчиняясь бесчеловечному, но непреодолимому порядку жизни, эти двое все-таки побеждают его силой своей человечности...
Так «норма» — оружие драматизации — оказывается важнейшим приемом изложения авторского кредо.
В произведениях Федерико Феллини двойственность финала обретает незамаскированную показательность. Слезы героя и встреча с ребенком — вот что находим в конце почти каждого его фильма.
Плачет Моральдо, прощаясь с городом своей юности, вырываясь из привлекательного, но безотрадного мира равнодушных бездельников («Маменькины сынки»). Плачет умирающий в овраге Аугусто, мошенник преклонных лет, избитый своей шайкой за первый, может быть, в своей жизни благородный поступок («Мошенничество»). Плачет Дзампано, цирковой силач, тупое и бессловесное животное, открывшее вдруг беспросветный мрак своей жизни («Дорога»). Плачет Кабирия, маленькая, смешная проститутка, дерзнувшая мечтать о счастье в этом бесчеловечном мире и ограбленная тем, кого по простоте душевной считала святым. Она даже не плачет — она бьется на земле, выкрикивая: «Я не хочу жить!.. Убей меня!.. Я не хочу жить!..»
Но пройдет время, и она выйдет на дорогу, смешается с группой веселых молодых ребят и девушек и, наконец, ответит на их добродушное заигрывание той замечательной улыбкой, что вспоминается еще долго потом. Финальный разговор Моральдо с мальчиком-железнодорожником, товарищем его ночных прогулок по городу, еще мог показаться зрителю случайным и непреднамеренным. Тогда в «Мошенничестве» художник обнажает свой прием: мимо умирающего Аугусто, не заметив его, проходит группа детишек, собиравших хво-
177
рост, и старый, уродливый человек безголосо хрипит им вслед: «Постойте... Подождите... Я хочу с вами...» А финал «Сладкой жизни»? Что окончательно развенчивает героя в наших глазах? Простенькое, незамысловатое событие— встреча с девочкой-служанкой, которой он как-то однажды восхищался, сравнивал с ангелом и которую теперь не узнает, усталый, потрепанный после ночной попойки.
Любопытно, что в сценарии планировался иной финал: Марчелло узнает Паолу, зовет ее к себе, показывает на странную рыбу, выловленную рыбаками, но девушка отмахивается и убегает. «Освещенная утренними лучами солнца, она входит в воду и присоединяется к своим подругам. Доносятся их голоса, их звонкий, долгий смех. Глубокое, неизъяснимое волнение охватывает Марчелло. Он и сам не знает, чем оно вызвано: болью или радостью, отчаянием или надеждой. Он подходит к тому месту, где Паола оставила свои туфли, наклоняется, дотрагивается до них, затем берет их в руки. Это дешевенькие, изящные, немного стоптанные туфли. Марчелло растроган до слез. Он смотрит вдаль, на спокойное, освещенное солнцем море, где весело резвятся девушки,— эти таинственные предвестницы новой жизни».
Типично чеховская интонация: какая, должно быть, замечательная жизнь будет здесь через сто-двести лет!
В фильме такой конец невозможен. Марчелло сценария и Марчелло фильма — разные люди. Марчелло сценария заслуживал снисхождения, концовка несла ему сочувствие, понимание. Марчелло фильма — конченный человек. Он настолько отдался этой самой «искусственной жизни», что уже потерял чувствительность к жизни иной, «нормальной», естественной. И если весь фильм — это призыв о помощи, то образ Марчелло в нем — демонстрация одного из пропавших: «Осторожно! Сладкая жизнь! Очень опасно! Этот уже погиб!»
178
Наоборот, оптимистический финал «8 1/2», решение героя продолжать поиски правды, борясь со своим окружением, борясь с самим собой, венчается заключительным кадром — воспоминанием о самом себе тридцатилетней давности, о маленьком участнике циркового оркестра. Тоска по чистоте находит свой маяк — наивную неискушенность ребенка, незамутненную ясность в вопросах добра и зла.
Слезы — это знак поражения героя в его борьбе с жизнью, белый флаг капитуляции. Очная ставка с ребенком— это свидание со своеобразной «нормой» жизни, позволяющей произнести безоговорочный суд над нынешним установлением вещей. «Норма» эта в глазах Феллини вполне определенна.
Феллини католик. Католик, положим, странный: голосующий за социалистов, не ладящий с Ватиканом, похваляющийся, что «8 1/2» — самая антикатолическая из его картин. И все же он, конечно, католик, если понимать под этим художника, впитавшего в себя католичество, художника, порожденного им и им же отравленного. В полном соответствии с католическими догматами христианства ребенок для Феллини — существо непорочное, почти ангел.
Странная, что и говорить, «норма», весьма далекая от наших идеалов. Но в руках этого громадного художника она становится прекрасным средством, чтобы вскрыть бесчеловечность окружающего его общества, обличить порочность и неестественность не какого-то явления, а всего строя общества, жизнепорядка.
Примечательно, что эволюция Феллини от «Дороги» до «8 1/2» это не только путь от моральных абстракций, от столкновений почти кантовских императивов к зоркому, трезвому пониманию взаимоотношений личности и общества. В плане формальной поэтики он одновременно оказывается путем от канонической, фабульной драматургии сначала к промежуточным формам, а за-
179
тем к крайним на сегодняшний день проявлениям драматургии бесфабульной.
И это, конечно, не случайно. Эволюция эта характерна для всего киноискусства Италии. Неореалистическое движение, возникшее в послевоенные годы, было порождено обострением общественных противоречий. Разрушенная, голодная, нищая страна, переполненная бездомными и безработными, призывала художников к осмыслению конкретных социальных проблем. И появились фильмы, посвященные безработице, низкому уровню зарплаты или пособий, отсутствию жилищ, забастовкам, волнениям в деревне...
Прошло несколько лет. Они принесли стабилизацию экономики. Самые зияющие несправедливости социальной жизни были подштопаны. Послышались разговоры об «экономическом чуде». Конечно, в стране остались еще и нищие, и голодные, и безработные, и не имеющие жилищ. Но взыскательный художник уже обязан был копать глубже в поисках первопричины общественного неблагополучия. На повестку дня был поставлен вопрос об осмыслении всей совокупности социальных и иных проблем. На повестку дня был поставлен вопрос о бесчеловечности не той или иной частности, а всего порядка вещей.
Могла ли при этом уцелеть прежняя форма драматического конфликта?
Польский критик Болеслав Михалек писал о Феллини в 1959 году: «Он берет человека в условном обществе и все недостатки общества объясняет несовершенством человеческой природы».
Это верно, покуда речь идет о Феллини периода «Дороги». Герои этого фильма при всей их натуральной вещественности были героями-тезисами, героями-символами. Не мудрено, что они столкнулись в жаркой схватке, животноподобный силач Дзампано, легкий, как бы неземной Мато-канатоходец и Джелсомина, олице-
180
творенная доброта и жертвенность, мечущаяся между ними в поисках своей предназначенности.
С меньшим успехом мы будем отыскивать моральные императивы в героях «Мошенничества» и «Ночей Кабирии». Одновременно мы находим в этих фильмах и значительные нарушения фабулярных канонов. А «Сладкая жизнь», явившаяся откровением в области сюжетных нормативов, открыла с новой стороны и Феллини-мыслителя.
Не уставая бичевать греховность человеческой породы, он все же посвятил свою работу разбору того, как личность со всеми своими пороками формируется порочным обществом. Семь громадных эпизодов этого фильма — это семь этапов душевного падения главного героя. Каждая пядь его падения — от влияния общественной среды, установления которой он самозабвенно и самоубийственно принимает в качестве основных законов жизни.
В одном романе Аксенова юнец-полузнайка, чтобы пустить окружающим пыль в глаза, то и дело повторяет:
— «Сладкая жизнь» — это, по-моему, экзистенциализм.
На самом деле, трудно представить себе что-нибудь более противоположное учению о некоем моральном императиве личности, выделяющем ее из времени и пространства, диктующем ей ее поступки с большей силой, нежели условия среды, обстоятельства жизни, общепринятые установления. Этот нравственный камертон, запеченный в каждую личность и отбивающий внутри нее своеобразный моральный порог, границу добра и зла, это начало, не порождаемое обществом, а противостоящее ему, так и хочется окрестить божественным началом. Нет, католик Феллини в данном случае стоит гораздо ближе к тезису Маркса о личности как совокупности общественных отношений.
181
Поклонников «Сладкой жизни» озадачил и удивил фильм «8 1/2». После широчайшей панорамы действительности— блуждание по закоулкам одной души. После сурового анализа социальной среды — скрупулезный разбор потаенных импульсов индивида. После строжайшей критики мира внешнего — столь же трезвый анализ мира внутреннего.
Выбор полярно противоположных средств не должен скрывать от нас сохранность той же проблематики. Взаимоотношения личности и общества, вскрытые в «Сладкой жизни» извне, с точки зрения общества, теперь вскрываются изнутри, с точки зрения личности.
«Порочное общество формирует личность по образу и подобию своему»; — вот тезис первого фильма.
«Достойная личность формируется в борьбе с порочным обществом», — вот тезис второго.
То, что Марчелло Рубини принял как неизбежность, Гвидо Ансельми желает испытать на прочность. Он и жив ровно настолько, насколько не принимает эти законы общества, насколько отваживается высвободить себя из-под их влияния. Но борьба с ними оказывается борьбой с самим собой. Мало не пожелать быть простодушным порождением общественных установлений. Желая или не желая этого, ты все равно их продукт. Твое сознание уже отравлено ими, сооружено по их образу и подобию. Борясь за себя, ты должен прежде всего бороться с самим собой. Борясь за свое в тебе, ты должен выступить на бой против чужого в тебе, против того мертвого, что висит на живом, что мешает тебе быть самим собой.
Тема поисков «общей идеи», «определенных задач» (и для творчества и для жизни) в этом фильме открывается на примере особо комичной и в некоторой степени откровенно абсурдной ситуации.
Константин Гаврилович Треплев, не имевший этих самых «определенных задач», в конце концов терпел 182
крах только на пространстве белого листа бумаги. И при этом одна только Полина Андреевна стояла за его спиной и бесцеремонно заглядывала в рукопись, говоря:
— Никто не думал и не гадал, что из вас, Костя, выйдет настоящий писатель...
В другом положении Гвидо Ансельми. Он ставит фильм. Он связан по рукам и ногам обязательствами перед сотрудниками, перед актерами, перед продюсером... В этих условиях отсутствие «общей идеи» — тема трагическая по своей сути — звучит в фарсовом регистре. Он вынужден прятаться, притворяться, скоморошничать, тянуть время, делать многозначительные мины,— чтобы всему свету не открылось, что он творческий банкрот.
У него спрашивают:
— Что вы думаете об отчуждении? Как, по-вашему,
будет ли конец света и сумеет ли человек спастись? Вы
за или против развода? Избегнем ли мы кризиса? Влю-
бляетесь ли вы в актрис ваших фильмов? По-вашему,
кино — искусство или времяпрепровождение? Вы про-
тив эротики? К какой политической партии вы принад-
лежите? Как это можно — делать фильмы без героев?
Какая, по-вашему, разница между марксизмом и като-
лицизмом? Почему в каждой вашей картине есть про-
ститутки? Вы могли бы снять фильм по заказу? Напри-
мер, по заказу папы?
Это фильм тысячи и одного вопроса. Тысяча вопросов остается без ответа. Один, не произнесенный, получает его.
— Мои метания, — говорит Гвидо Ансельми, — от
того, что я ищу правду.
Он боится довериться фразе, схеме. Он болезненно чувствует любую фальшь. Он ищет вновь и вновь, еще и еще. И главный итог фильма — как раз пафос необходимости, неизбежности этой борьбы против фальши, фальши в себе и вокруг себя.
183
Но почему поиски правды не предстали перед нами в цепи поступков, связанных причинно-следственной последовательностью?
В этом случае в значительной степени скрадывалась бы всеобщность интересующего Феллини конфликта личности и общества. За серией показательных «частных» стычек хуже просматривалась бы «общая» их закономерность.
«8'/г» — это не история таких-то поступков такого-то человека. Это анализ состояния его души. Люди, с которыми сталкивается Гвидо Ансельми,— не объекты внимания автора, а атрибуты, посланцы определенных сторон порядка вещей. Они — вехи, отмечающие границы душевного неустройства Гвидо Ансельми. В какой-то мере они даже условные знаки, символы этого неустройства.
Здесь драматургические законы находят подкрепление в законах поэзии.
Но тут уже мы забираемся в область следующей главы.
|
| Категорія: Фільм без інтриги | Додав: koljan
|
| Переглядів: 471 | Завантажень: 0
|
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі. [ Реєстрація | Вхід ] |
|
|



