Статистика
Онлайн всього: 6 Гостей: 6 Користувачів: 0
|
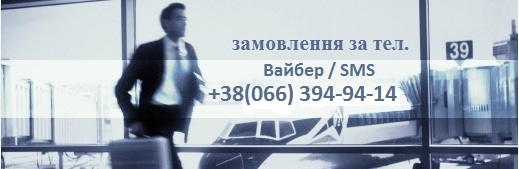 |
Матеріали для курсової |
ДВОЙНОЕ ЗРЕНИЕ
|
| 22.04.2014, 17:51 |
| Метерлинк, чьи драматические эксперименты Чехов ставил очень высоко, как-то написал коротенькую одноактную пьесу «Там, внутри». Сквозь три окна нижнего этажа мы видим внутренность домика, и там се-166
мью, сидящую при лампе. Уже поздно, отец — у камелька, две молодые дочери вышивают, мать, задумавшись, смотрит в пустоту. Обычный вечер, обычные подробности будней... Почему же мы смотрим на это, затаив дыхание? Потому, что в саду, перед домом, развертывается нечто жуткое: пришли односельчане живущих в домике и тихо переговариваются между собой, не в силах нарушить покой семьи тяжелой вестью. Дело в том, что третья дочь, молодая девушка, только что покончила с собой, и ее бездыханное тело сейчас сюда принесут...
Мы говорили о двух голосах сценария «Жили-были старик со старухой».. Здесь то же самое. Сопоставление этих голосов — и есть средство драматизации. Разница между ними — и есть точечный заряд конфликта. В этих условиях мы каждую деталь воспринимаем как бы двойным зрением — по шкале ее обычного значения и по шкале ее нынешнего, тутошнего значения. Разница между этими двумя значениями образует накал конфликта, как бы разность его потенциалов.
Прием двойного зрения известен еще с незапамятных времен. Довольно давно его используют и в кинематографе, даже в рамках фабульной драматургии — как дополнительное средство драматизации. Помните первые кадры польского фильма «Канал»? Аппарат панорамирует по лицам персонажей, а голос диктора объявляет: «В этом отряде сорок три человека... Это герои трагедии. Смотрите на них внимательнее — все они погибнут...» А вот югославский фильм «Н 8». Нам показывают катастрофу, в которую попал междугородний автобус, нам объявляют, что в ней погибло восемь человек, а потом показывают рейс этого автобуса с самого начала. И оттого, что нам известно о близкой смерти восьми его пассажиров, мы все время обнаруживаем дополнительное значение в том, что видим. Мы соображаем: зря, зря профессор нагрубил своей жене, — быть
167
может, это их последний разговор. Или: ну зачем этот молодой человек повздорил со своей привлекательной соседкой? Кто знает, будет ли она жива через пять минут?
Объясняя, что рассказ об одном дне одного человека уже несет в себе какую-то драматургию, Евгений Габрилович отмечает, что такая драматургия становится совершенно очевидной, если, допустим, данный день — последний из жизни героя, ибо это «придало бы серьезный и важный «второй смысл» всему, что мы видели на экране» *.
Французский фильм «Клео, от 5 до 7» рассказывает о двух часах из жизни женщины. В семь она должна узнать результаты медицинских анализов, удостоверяющих, больна она раком или нет, а в пять начинается картина. Два часа экранного времени. Это самые что ни на есть обыденные два часа из жизни Клео. Она делает то, что делает каждый день: ходит по магазинам, обедает с подругой в кафе, отправляется навестить другую подругу, принимает возлюбленного, бродит по парку. Ничего особенного, но присутствие трагического известия, готового вот-вот разразиться, заставляет нас на любую, самую пустяшную подробность смотреть по-особому. Каждая из них потеряла свою обычность, предстала в новом качестве, как бы лишившись некоего элемента, которым обладала в «нормальной» жизни. Каждая — наэлектризована. Каждая — как ион, то есть атом, потерявший электрон и приобретший соответствующий заряд.
Вот почему мы оговаривались в свое время: дело не в абстрактном бунте подробностей, захлестывающих канву интриги. Дело в той особой силе, с помощью которой подробности, даже не соединенные фабульной
* Сб. «От замысла к фильму», изд. Бюро пропаганды СРК СССР, М., 1963, стр. 16.
168
канвой, самостоятельно держатся в ткани произведения. Так сам собой держится волчок, когда к нему приложена сила вращения, уравновешивающая силу тяжести.
Откуда берется эта сила вращения?
В примерах, разобранных нами до сих пор, собственной своей персоной присутствовало Особое Драматическое Событие — смерть. Только оно выступало в странной, не свойственной ОДС до сих пор роли. Оно было как бы вынесено за скобки. Оно не вертело маховое колесо интриги. Одним своим присутствием, соседством, оно уже воздействовало на детали, наполняло их «разноименными зарядами», возбуждало в них электрический ток конфликта.
Возьмем теперь прозаический пример — знаменитую повесть А. Солженицына.
Представим себе, что сказал бы сторонник традиционного сюжетосложения, внимательно, с карандашиком в руках изучивший повесть, чтобы найти в ней хоть какую-нибудь кинематографическую потенцию для экранизации.
— Но ведь здесь же ничего не происходит! — в изумлении отметил бы он. — Но ведь здесь нет состава событий. Повесть, согласен, читается с увлечением. Но зритель, знаете ли, не читатель. Зритель требует поступательно развивающегося действия. И зритель прав. Наше зрелищное искусство...
Ну и все прочее,
А вот рассказ В. Шелеста «Самородок», промелькнувший на страницах «Известий», не ускользнул от внимания кинематографистов. В виде вводной новеллы, весьма условно связанной со всем остальным произведением, он вошел в фильм режиссера Ю. Егорова «Если ты прав...».
Тяжба человеческой сущности заключенных бериев-ского лагеря с бесчеловечными условиями жизни у В. Шелеста материализовалась в открытое столкнове-
169
ние взаимоисключающих тенденций. Эти тенденции вызваны к жизни, извлечены на поверхность с помощью нехитрого ОДС — находки самородка. Бригада заключенных нашла самородок. Это завязка произведения. Самородок можно скрыть от лагерного начальства и, откалывая от него по кусочку, выполнять трудные нормы выработки. На этом настаивает одна группа заключенных, люди, сломленные трудностями лагерной жизни, подчинившиеся ее законам. Другие, находящие в себе силы для борьбы, настаивают на том, чтобы самородок был сдан по назначению — на благо отчизны, обороняющейся от фашистов под Москвой. Столкновение и борьба этих точек зрения — перипетии рассказа. Наконец, к возмущению уголовной шпаны и к великому удивлению лагерного начальства, бригада сдает самородок. Это развязка и одновременно идейный итог произведения. Как только обычная жизнь бригады золотоискателей, нарушенная необыкновенной находкой, вернулась в свою колею, так тотчас автор рассказа потерял интерес к происходящему.
Солженицын, напротив, избрав рамкой своего произведения один день Ивана Денисовича, не раз и не два подчеркнул неприметность этого дня в общей веренице дней. Любопытно, что мимоходом упоминается несколько случаев, каждый из которых мог лечь в основу особого рассказа в духе только что упоминавшегося: попытки побега, убийство стукача и так далее. Но Солженицын не желает увлекать нас интригой редкостного события. Идя иным путем, он добивается больших результатов. Ужас лагерной жизни, благородство людей, остающихся в этом аду людьми, потрясает нас с невиданной силой именно потому, что мы постигли все это на обыденном, как бы даже вовсе не организованном материале, на самых простых подробностях самого простого, самого обычного дня — одного из трех тысяч дней Ивана Денисовича.
170
Все дело в том, что любая из этих подробностей была для нас открытием, ибо мы воспринимали ее двойным зрением. Помимо своего реального значения в тех страшных условиях жизни героя, она для нас, читателей, имела еще и второе значение, «нормальное», то есть такое, каким она обладает в нормальных условиях жизни на воле. Мы поражались, читая, как много значил для Ивана Денисовича кусочек колбасы и к каким ухищрениям приходилось прибегать этому человеку, чтобы сохранить тепло в своих валенках,— по той простой причине, что по «нормальной» шкале и то и другое имело в наших глазах мизерную ценность.
Подробность — вот что оказывается проводником конфликта в повести Солженицына, вот что заменяет ей механизм ОДС. Подробность — вот арена столкновения человечности с бесчеловечностью. Отказавшись от плотины ОДС, А. Солженицын обращается к «пене», к точечным зарядам конфликта.
Позвольте, а разве в «Квартире» не было драматизма до того момента, как начальство Бакстера в апартаментах Бакстера стало услаждаться возлюбленной Бакстера? А если б начальство услаждалось с посторонней девицей, это не открыло бы нам бесчеловечной противоестественности тех обстоятельств, в которых находится Бакстер? Разве драматизм подробностей, электричество «потока жизни» не способны реализовать конфликт?
Способны.
Вот перед нами фильм. Он называется «Голый остров». Здесь вы не отыщете необыкновенного события, ломающего быт простой японской семьи. Однако художник и не нуждается в услугах такового. Он постиг и показал нам ненормальность этого будто бы нормального хода вещей. Мы, добывающие воду простым поворотом крана, смотрим широко открытыми глазами на мытарства супружеской пары, возящей живительную влагу для своей плантации бог знает откуда. Мы, видевшие,
171
чего стоит этим людям их труд от зари до зари, будем потрясены, когда/обнаружим, как мало этот труд им приносит. И мы возликуем, когда увидим, что, несмотря на все беды и горести, эти два человека снова вернутся к своему привычному, ничем вроде не примечательному, но именно этой привычностью как раз и героическому труду.
К слову говоря, небольшой эпизод болезни и смерти ребенка мог бы под рукой менее чуткого художника стать той искомой фабульной канвой, к которой можно было бы прицепить все остальное в виде традиционной экспозиции. Кането Синдо отмахнулся от этой возможности. И, конечно, он прав.
Тут, однако, стоит задуматься.
— Позвольте, позвольте, — слышен голос придирчивого читателя. — Но разве не доказали вы нечто прямо противоположное тому, что собирались?.. «Обыденные подробности...» «Реальный ход жизни, не сломленный ОДС...» Оказывается, все-таки сломленный! Пусть ОДС уходит за скобки — оно все-таки довлеет над происходящим. Как раз его силой подробности приобретают заряд. Это и в «Клео», это и в «Н8», это и в повести Солженицына. Арест Ивана Денисовича — вот вам слом нормального хода жизни. Все остальное — последствия этого слома. Создателю «Самородка» этого показалось мало: он к этому сломленному ходу отнесся как к нормальному и, чтобы выявить его закономерности, сломал его вторично. Воля автора. Но суть осталась прежней: без слома нет драматургии. А «Голый остров»? Разве это не слом — существование причин, обусловливающих в наши дни это натуральное хозяйство? Это, правда, не Особое Драматическое Событие. Но это, безусловно, Особая Драматическая Ситуация. Тут-то и запятая.
Мы говорили: будни, обыденность, рядовые подробности...
172
Чепуха! Кому она интересна — обыденность в пря-|мом, настоящем смысле слова?
Однако слом слому рознь.
Есть слом с помощью ОДС — это путь интриги. Есть -слом с помощью соседства ОДС — этому мы посвятили - приведенные выше примеры. А есть слом — от взгляда. От зоркости постижения. Можно ли такой слом называть сломом?
Мы начали с близких, родственных драматургии интриги структур. Теперь мы подходим к полярно противоположным структурам.
Взгляд на мир наивными глазами ребенка — вот старый-престарый случай слома без помощи и даже без соседства ОДС.
В «Сереже» этот прием обрел свое кинематографическое существование. Восприятие ребенка — вот норма, отбивающая ненормальность самых обычных вещей, дающая возможность увидеть их двойным зрением. Столкновение «нормальной» точки зрения Сережи с самыми разными сторонами человеческой жизни — вот что стало ареной конфликта в фильме, а не дотошное вылизывание фабульного механизма завязки-развязки.
А взгляд на мир глазами провинциала?
Росселлини и Чаплина постановщик «Ночей Каби-рии» называл своими кинематографическими учителями. После премьеры «Сладкой жизни» разразился любопытный инцидент: Росселлини, решительно не принявший картину, заявил, что это «фильм провинциала». Пронырливые журналисты попросили Феллини прокомментировать заявление.
— Росселлини думал задеть меня, — сказал Феллини, — а между тем он преподнес мне комплимент. Взгляд провинциала — это естественный, здоровый взгляд человека, который еще не пресыщен цивилизацией и хочет все попробовать на ощупь, ничего не при-
173
нимая на веру. Да, «Сладкая жизнь» — это фильм провинциала. Я могу этим только гордиться.
Это не полемический выверт. Действительно, драматизм «Сладкой жизни» рождается из ощущения ненормальности всего, чему становишься свидетелем, из чувства несоответствия этой «сладкой» или «искусственной» жизни — жизни иной, естественной, нормальной, со шкалой которой подошел к предмету своего изображения художник.
Сам Феллини определяет свой фильм как «призыв о помощи» и рассказывает, что первотолчком его замысла послужила атмосфера Венецианского международного кинофестиваля, обстановка коктейлей, приемов, смешение языков, разнообразие фешенебельных туалетов — «вся та абсурдная светскость, которая окружает кинематографию».
— И я подумал, — продолжает он, — а что, если показать историю, в которой эта искусственная жизнь, такая поверхностная, такая плоская, была бы передана широким полотном? В первое время я думал связать ее с фестивалем в Венеции, тогда мир кино предстал бы образчиком этого искусственного образа жизни. Но по мере того как я листал иллюстрированные массовые журналы, просматривал альбомы дамских мод, читал хронику, я пришел к твердому намерению обобщить все эти противоречивые впечатления...
Еще любопытней признание художника о том, как он постиг стиль будущего фильма.
— Пока шел подбор материала, я не очень интересовался фактами и эпизодами. Я размышлял над проблемой стиля фильма. В данном случае стиль должен был стать сущностью вещи. И вот однажды, подобно вспышке молнии, я увидел перед собой весь свой фильм. Мне помогла мода женского платья-рубашки. Я как-то обратил внимание на прогуливающихся женщин, одетых в какой-то фантастической, совершенно преобра-174
жающей их манере. Это было очаровывающее зрелище перевоплощения человеческого естества. Я словно про-
зрел. Я тотчас представил стиль, в котором мне надлежало поставить свою картину. Деформация, то развлекающая, то устрашающая, но безусловно фантастическая, должна была помочь мне рассказать то, что готовилось вылиться из моей души. В этом ключе можно было представлять разные общественные группы, отдельные лица, поведение персонажей, одежды, бусы, серьги, портсигары — словом, все. Мне кажется, этот стиль очень хорошо выражает общество, в котором мы
живем *.
Иначе говоря: стиль картины стал гипертрофией приема двойного зрения. Каждая вещь бралась худож-иком в ее неравенстве самой себе. В ее противоестест-
1
венности. В ее нелепости — с точки зрения провинциала. В разнесенности ее исконного (провинциального) и тутошнего (столичного) значений.
Вот вам и «прямое кино». Вот вам и «что показывает, то и есть, не больше». Вот вам и «иллюстрация общеизвестной мысли». Вот вам и опасность натурализма.
|
| Категорія: Фільм без інтриги | Додав: koljan
|
| Переглядів: 396 | Завантажень: 0
|
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі. [ Реєстрація | Вхід ] |
|
|



