Статистика
Онлайн всього: 4 Гостей: 4 Користувачів: 0
|
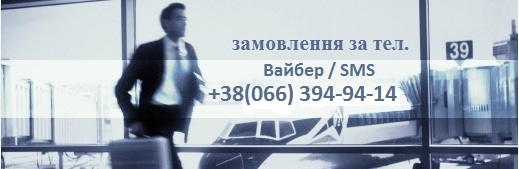 |
Матеріали для курсової |
ДВУХГОЛОСИЕ ДЕТАЛИ
|
| 22.04.2014, 17:48 |
| В прошлом большие актеры часто достигали успеха в пьесах откровенно посредственных. Неглубоко намеченная колея шаблонной интриги, стандартная роль позволяли легко перекрыть себя, позволяли потрясти
122
зрителя богатым набором нюансов, противоречащих будто бы такой интриге, такой роли...
На нынешнем этапе развития драматургии важность этих дополнительных, «необязательных» красок настолько возросла, что доверять их актеру, даже самому талантливому, непрактично. Их должен поставлять сценарист. Система таких красок должна нести авторскую мысль параллельно системе интриги или даже в противовес ей.
Забавный случай произошел с фильмом «Жили-были старик со старухой». Все отзывы об этом фильме так или иначе сравнивают его со сценарием.. Те, кто в восторге от работы режиссера, упоминают к вящей его славе, что он принужден был еще углублять неглубокую драматургическую колею. Те, кто, напротив, не переоценивает новое достижение Г.Чухрая, педантично отмечают, что сценарий оказался при постановке упрощен и огрублен.
Может быть, правы и те и другие?
Перелистаем несколько страничек произведения Фрида и Дунского.
Вот самое начало: пожар, отблески пламени, громыхание куска рельса, которым созывают народ, бегущие отовсюду люди... В этой картине авторы выделяют одну маленькую-маленькую подробность: «Подросток лет четырнадцати колотил в рельсину не переставая, довольный тем, что ему поручили важное дело».
Вторая половина фразы может проскочить мимо глаз, настолько она кажется околичностью. Ведь важно— что? Что кто-то колотит. Нет, оказывается, в этом сценарии важно и другое: у того, кто сзывает народ на пожар, рожица расплывается в довольной улыбке.
Нелепость? Противоречие?
Пойдем дальше.
«Старик стоял неподвижно и с неодобрительной усмешкой смотрел, как огонь расправляется с его жиль-
123
ем. Старуха же, глядя в одну точку дикими от горя глазами, дрожала всем телом и переступала с ноги на ногу, будто ждала чего-то. И точно: когда ветром откачнуло пламя в другую сторону, старуха, прикрыв лицо локтем, кинулась к дому, схватила забытый у крыльца маленький самовар и со всех ног побежала назад к своему старику.
•— Вот он, Гриня! — задыхаясь и кашляя, сказала она.
Но муж выхватил у нее самовар и, натужившись, кинул его обратно к дому. Самовар покатился по земле и вкатился в огонь. А старик сказал старухе:
— И чего ты колготишься? Стой... Грейся».
Снова нелепость?
Теперь откроем сценарий ближе к концу. Вот старик умер, несмотря на то, что сектант Володя истово молил господа об излечении. Сомнения закрадываются в душу Володи.
Блуждая в ночи под светом северного сияния, Володя, что называется, дозревает.
«Сектант Володя стоял возле трансформаторной будки и глядел в бушующие холодным пламенем небеса. Глядел пристально, напряженно и вдруг сказал со страхом и вызовом:
— Бога нет.
Северное сияние молча продолжало свою работу. Тогда Володя повторил:
— Бога нет.
Он постоял еще немного. Ничего не случилось. И Володя пошел куда глаза глядят.
У железнодорожного переезда приплясывал, топоча огромными валенками, озябший сторож. Володя и ему сказал:
Бога нет.
Точно. А закурить есть? — весело спросил сто
рож».
124
Вот и все.
Что же общего между этими тремя кусочками?
Во-первых, то, что они не попали в фильм Чухрая.
Во-вторых, их внутренняя противоречивость. Назвав какой-то предмет, явление, обозначив какую-то эмоцию, авторы тут же как бы оговариваются, отмечают, что, собственно, дело-то обстоит не совсем так, как кажется. Что предмет, который только что был вам назван, на самом деле не совсем таков. Он не равен самому себе. Он в противоречии с самим собой. Он несводим к себе самому. Он богаче.
Фанатик, теряющий веру, — экий, казалось бы, трагический эпизод. Авторы, однако, более зорко смотрят на своего героя. Одной фразы случайного свидетеля оказывается достаточно, чтобы весь эпизод приобрел новую окраску. Бог уравнен с сигаретой! Трагедия, оставаясь трагедией, в то же время уже звучит и в комическом ключе.
В одних сценах это открывается наглядно, в других едва заметно, но такая двойственность характерна для всего произведения Дунского и Фрида в целом. Это особенность авторского взгляда на происходящее. Даже название сценария одновременно звучит и в сказочной манере и простой констатацией реального факта.
Бахтин, размышляя о поэтике Достоевского, о специфике «полифонического», «многоголосого» романа, ввел в литературоведение понятие «двухголосого слова». Слова, которое помимо своего обычного, нормального, обиходного смысла в данном контексте приобретает еще и другой, дополнительный, часто прямо противоположный смысл. Оно в одно и то же время и то, что есть, и не то, что есть. В нем как бы частица двух различных мелодий для двух различных голосов.
В сценарии Фрида и Дунского перед нами как бы «двухголосые» детали, — в ином, конечно, смысле этого термина. Из околичностей, из вовсе не обязательных
125
будто бы подробностей, которые рассыпаны по сценарию то тут, то там, мы улавливаем какую-то особую мелодию, развивающуюся контрапунктически по отношению к первой, главной, очевидной.
Помните, мы размышляли о «лейтмотивах» пуантилистов? Мы отмечали, что система таких лейтмотивов приходит на помощь художнику, отказывающемуся от услуг интриги-линии.
Тут перед нами иной случай. Система «вторых голосов» существует внутри совершенно очевидной, хотя и очень простой событийной конструкции. Но вот в чем самая тонкость: эта-то система «вторых голосов» переосмысляет всю конструкцию, придает ей новый, во многом противоположный смысл.
Действительно: о чем этот сценарий по первому взгляду? О хорошем человеке. О добром, честном и справедливом старикане, который всех судит, всеми любим и всем помогает жить хорошей, доброй, справедливой жизнью.
Положа руку на сердце,— может ли в наши дни эта тема взволновать большого художника? Мало мы видели этих старичков, готовых направо и налево резать правду-матку, готовых привести всех к одному знаменателю? Обольщенные внешней простотой их жизненной программы, художники часто просматривали ее примитивность, неуниверсальность в условиях нашей противоречивой жизни.
Схематизм этой внешней канвы, по-видимому, смутил и режиссера. Во всяком случае, те поправки и подчистки, которые приобрел сценарий, носят весьма недвусмысленный крен: они ставят под сомнение мудрость старика и в какой-то мере развенчивают его нравственную программу, выявляют ее догматичность.
В итоге фильм рассказывает о не совсем, не всегда и не во всем справедливом старике. О старике ищущем, ошибающемся и то и дело попадающем впросак.
126
Вот, например, столкновение с сектантом Володей. Тоже не очень свежий мотив. Старик, как это ему и полагается, крепко отчитывает Володю на глазах всего . народа, затем по-простому, по-доброму, по-человечески помогает ему, и в результате Володя задумывается: а прав ли он? А есть ли бог?
В фильме появилось крошечное добавление: отчитывая Володю, старик вдруг выпаливает:
«—Да что вы на него смотрите? Да он небось шпион и провокатор!»
Безусловная натяжка. Но она необходима в услови-ях фильма. Она позволяет сектанту Володе в свое время укоризненно кинуть старику:
«— Я знаю, Григорий Иванович, вы человек справедливый. Но вот зачем это вы меня тогда в клубе обозвали провокатором и шпионом? Если бы в прежние времена вы меня так назвали, знаете, где бы я был?»
И старик задумывается. Действительно, зачем? Чтобы доказать зрителям, что он не совсем справедливый? Еще показательнее столкновение с дочкой. Дочка, «блудливая коза», бросила мужа и ребенка, убежала к любовнику, а потом вернулась с убеждением, что «Валентин меня простит». Ясное дело, простит. Он — мямля, тряпка, отношения, завязавшиеся у него с соседкой Галей, не дороги ему...
Старик выгоняет родную дочь из дому. Так сказать, жертвует счастьем ближнего для блага дальнего.
Режиссер и тут начеку. Действительно, что-то вся ситуация отдает схематизмом. А что, если все наоборот? А что, если Нинка — хорошая, а старик из своих высоких соображений разрушил ей жизнь?.. Надо только кое-что подчистить, кое-что убрать, кое-что добавить... Прочтем сначала этот эпизод по сценарию. «— Сколько я живу,— с отчаяньем сказал старик,— не видел такого и не слышал... Чтобы годовалое дитя бросали!...
127
— Это он не хотел — Георгий... У него ни жилпло-
щади своей, ничего, — глядя в пол, объясняла Нинка.—
А я его любила, я не могла от своего счастья отказаться!
Старуха — она сидела в стороне, на диванчике — горько вздохнула. Отец внимательно поглядел на Нинку.
Какое же тебе счастье мерещилось?.. С подоб-
ным человеком.
У нас было счастье!—закричала Нинка с вызо-
вом.— Было! Это все Райка, гадина, сестра его... Мои
платья носила, чулки, а его против меня настраивала!..»
Теперь я цитирую монтажный лист:
«Нинка. Я полюбила человека... Давно, в институте... А он женат... Потом я должна была, я хотела забыть его и не смогла...
Старик. Сколько лет живу на свете, никогда не видел и не слышал, чтобы годовалое дитя бросали...
Нина. Я думала, мы найдем комнату, я Ирочку заберу. Ну, Галя и раньше с ней оставалась... Я не могла не поехать за ним... Поймите, я любила этого человека...
Старик. Бросила дом, семью, ребенка и кинулась за каким-то негодяем!
Нина. Ты не смеешь о нем так говорить! Ты о нем ничего не знаешь!
Старик. Нет, знаю, все знаю! И о комсомольском собрании там, в институте, и почему ты в аспирантуре не осталась. Он и тогда тебя предал, красавчик твой, и теперь!
Нина. Он не мог уйти от жены. Она очень больна. И я ни о чем не жалею, слышите, ни о чем!»
Как говорится: совсем другое дело.
А вот сцена расставания.
Снова начнем со сценария.
«На крыльце показались Нинка со своим чемоданом и старик. На нем было пальто внакидку, шапку он не успел надеть.
128
— Нинка, вернись, — просил старик. — Простись с
матерью... Она-то чем провинилась?..
Нинка молча стала спускаться по ступенькам.
Ниночка, ты если в Москве не останешься, в Гу-
дауту езжай, к Максиму... Я ему напишу.
Я думала, вы мне отец-мать, а вы мне волки! —
не оборачиваясь, сказала Нина.
Старик хотел что-то возразить, но закашлялся и не смог выговорить ни слова. Уже у калитки Нинка обернулась:
— Иди в дом! Простудился ведь!
Старик постоял еще, пока она не скрылась за оградой, потом пошел в дом».
Теперь снова заслушаем монтажный лист:
«Старик. Нина, постой! Слышишь, вернись! Нинка, вернись, говорю! Не обижай мать, возьми деньги. Хоть адрес оставь.
Нина. У меня нет адреса. Какой ты справедливый, отец... Все по полочкам разложил... всех рассудил, кто прав, кто виноват.
Старик. Ты не смеешь разбивать чужую жизнь.
Нина. А Галка? Разве она не разбивает мою семью?.. Я понимаю тебя, отец. Ты спасаешь их счастье, жертвуя мной. А откуда ты знаешь, что они будут счастливы?.. Ведь он ее не любит. Он любит меня. И никто не знает, как сложится у них жизнь. Может быть, очень плохо.. А ты все решил за них и за меня. А может быть, у нас с Валентином все бы еще уладилось. Откуда ты знаешь? Он сам просил меня вернуться, обещал все забыть. У нас ведь ребенок. И я смирилась со всем. А об Ирочке ты подумал? И вообще, почему ты считаешь... Иди в дом, отец, простудишься...»
Монолог — в духе Расина. Зато все стало понятно: старик — эгоист и «обломок культа», он все решает за всех, превращая их в «винтики». Нинка же — не «блудливая коза», а борец против ханжества и казенщины.
129
Эйзенштейн объявил принципом «Чапаева» антипафос. Обычная формула пафоса — выход за рамки, из ряда вон. Легендарный Чапаев, наоборот, оказывается таким же, как мы с вами. Это тоже выход за рамки, переход в новое качество, но с иной траекторией движения.
То же самое и в сценарии Фрида и Дунского. То, что к фигуре старика можно подобрать известные схемы, это верно. Однако ошибка думать, что с этими схемами дело исчерпывается. Приглядитесь к этим схемам повнимательнее. Там, за ними — человек! Живой, точно увиденный, неповторимый! Не прилегающий к колее своих поступков, а во многом противостоящий ей.
Это у него-то готовы ответы на любую сложность? Как бы не так! Поглядите, как трудно дается ему любое решение! Как волнуется, терзается он, как творчески относится к каждому своему поступку.
Приглядитесь, и вы поймете, что пафос сценария лежит не там, где оказался пафос фильма. Режиссер увидел в старике догматика. Как раз наоборот! Он с головы до ног выписан как протест против догматической доброты, догматической человечности, как протест против доброты по таким-то и таким-то высоким соображениям.
Старику одинаково не подходят и всеядная, аморфная доброта сектанта Володи и выборочная, разложенная по полочкам доброта директора шахты, который не берет этого самого Володю на работу, ибо по религиозным соображениям тот может трудиться только пять дней в неделю. Доброта Володи догматична — за ней стоит бог, которому то-то угодно, а то-то неугодно. Доброта директора шахты догматична в такой же степени, хотя вместо слова бог он употребляет другие слова: закон, потребности производства, идейные соображения. Старик западает им обоим в душу, ибо открывает им глаза на то, что доброта всегда конкретна. Антидогма-
130
тична. Иначе она бессмысленна или даже вредна. Иначе она превращается в зло.
И так — буквально в каждом эпизоде сценария.
Вот комсомольский диспут со всем набором красивых школьных фраз: «Человек создан для счастья, как птица для полета!», «Счастье — естественное состояние человека...» Тут же отмечено, что только в наше время, в нашей стране могут быть счастливы все, и тут же добавлено, с учетом новых веяний: «конечно, каждый — по-своему». Потом старика понукают выступить, и он простым своим рассуждением отодвигает в сторону все эти абстракции. По его мнению, счастье — лишь короткое состояние души, а вообще же людям больше свойственно недовольство, и это — очень хорошо...
И уж тем более красноречиво его столкновение с дочерью. Он ее выгоняет не по догме, не по схеме, не потому, что так полагается. Он выгоняет ее потому, что творческим своим отношением к вопросам добра и зла рассудил, что иначе нельзя. Конкретное это рассуждение убедило его, как и нас, читателей сценария, что оставить Нинку — значит потворствовать злу.
Но режиссер отмахнулся от языка обертонов. Несовпадение как и что его смутило. Он счел такие несовпадения огрехами. Он беспощадно вычистил их.
Как-то Иван Щеглов, сравнительно опытный беллетрист, нашел у своего друга Антона Чехова «стилистическое пятнышко». О человеке говорилось ни более ни менее, что он был жив до той поры, пока не умер.
Раскроем «Степь» и посмотрим отрывок, о котором идет речь.
Вот бричка везет Егорушку мимо «уютного зеленого кладбища», обнесенного оградой из булыжника. «За оградой под вишнями день и ночь спали Егорушкин отец и бабушка Зинаида Даниловна. Когда бабушка умерла, ее положили в длинный, узкий гроб и прикрыли двумя пятаками ее глаза, которые не хотели закрываться. До
131
своей смерти она была жива и носила с базара мягкие бублики, посыпанные маком, теперь же она спит, спит...»
Да ведь это же — как в бабелевском «Письме»!
Мы, воспитанные на литературе XX века, не видим здесь «стилистического пятнышка», о котором сигнали-лизировал услужливый Щеглов. Нелепица, отмеченная им, на самом деле — псевдонелепица. Она естественна. С ее помощью мы открываем Егорушку — ведь это его глазами смотрит сейчас автор.
На пути к экрану сценарий «Жили-были старик со старухой» потерял целую россыпь подобных «нелепиц». И тогда исчезло переосмысление схемы: отбросив обер-тонные соотношения, режиссер вынужден был подправлять ее с помощью соотношений тоновых.
|
| Категорія: Фільм без інтриги | Додав: koljan
|
| Переглядів: 414 | Завантажень: 0
|
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі. [ Реєстрація | Вхід ] |
|
|



