Статистика
Онлайн всього: 2 Гостей: 2 Користувачів: 0
|
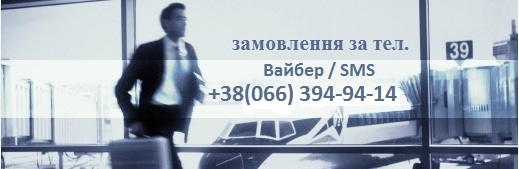 |
Матеріали для курсової |
НОСОК САПОГА АЛЕКСАНДРА I
|
| 22.04.2014, 17:47 |
| Возможность узнавания героя с помощью нюанса, подробности закономерно приходит на помощь драматургу, восстающему против драматургии интриги. Свободное, не вынужденное поступочнои колеей сочетание сцен и эпизодов, как бы раскованность в подборе красок— не прихоть, а условие работы художника, решившегося показать зрителю ту часть характерности героя, которая не прилегает в точности к контуру его поступка и которую, следовательно, не ухватишь одним только событийным механизмом драмы.
— Толстой поражает читателя носком сапога Александра, смехом Сперанского, заставляет думать, что он все об этом знает, коли даже до этих мелочей дошел, а он и знает только эти мелочи.
Знаете, чья подпись под этим несправедливым упреком?
Ивана Сергеевича Тургенева *.
Его смутило новаторское обращение Толстого с деталями. Ему хотелось детали плюсовать одна к другой на фоне точно обрисованного целого. Толстой использует их куда смелее. При сопоставлении его деталей их надо как бы перемножать. То, как смеялся Сперанский, может оказаться вернейшим путем к постижению его характерности, более верным, нежели многословное описание итогов его политической деятельности.
Анна Сергеевна, дама с собачкой, в минуту горькой откровенности пожаловалась Гурову:
«—Мой муж, быть может, честный, хороший человек, но ведь он лакей!.. Я не знаю, что он делает там, как служит, но ведь он лакей...»
Эта фраза — чеховский принцип отношения к персонажу. В точном соответствии со всей своей поэтикой
* Письмо к П. Анненкову от 2 февраля 1866 г.
117
Чехов сплошь и рядом отказывался от желания изваять целое, заменяя его — и заменяя прекрасно — одной-двумя характерными, так сказать, «микрособытийными» деталями.
Вместе с Анной Сергеевной Чехов не может объяснить, где служит ее муж — в губернском правлении или в губернской земской управе, что он там делает, какими мотивами руководствуется в поступках. Но Чехову достаточно того, что он подсмотрит вместе с Гуровым: что в фигуре мужа, в бакенах, в небольшой лысине есть что-то лакейски скромное, улыбается он сладко, и в петлице у него блестит какой-то ученый значок, будто лакейский номер...
Кинематограф в последние годы все чаще и чаще взваливает на плечи зрителя такую же вот пристальность к тому, как, как, как разворачивается тот или иной поступок. И тогда сам поступок может быть скромным или даже вовсе отойти в тень. Выразительнейшее как при совершенно нейтральном поступке раскроет зрителю подноготную героя ничуть не меньше, чем серия показательных ОД С.
Правда, надо научиться читать эти детали, оттенки. Научиться видеть в них свои линии развития и спада, ничуть не менее выразительные, чем нити интриги.. Научиться открывать драматизм, встающий за сопоставлением этих линий. Научиться изумляться детали, как изумляемся мы фабульному всполоху.
Уже прозвучало программное сравнение актерской игры с пейзажем, разворачивающимся за вагонным окном. Сравнение это тем более интересно, что принадлежит оно Иннокентию Смоктуновскому.
— Почему человек так любит смотреть на проплывающий за окном поезда пейзаж? Не оттого ли, что движение поезда позволяет вам делать в уже знакомом целом все новые и новые открытия, и от этих новых количественных накоплений целое вам представляется 118
в росте, в действии, в процессе, в пути? Движение поезда с каждым десятком километров приносит все новое и новое, которое вы суммируете в общее, цельное, и это цельное все время видоизменяется в зависимости от новых накоплений по ходу поезда. И вы отходите от окна несколько уставший, но довольный, — вы строили, и у вас это недурно получилось *.
Смоктуновский — может быть, один из самых замечательных примеров обертонного актера. Фильм «Високосный год» воочию обнажил это его качество, наглядно выделил его в контрасте с неуспехом актеров необер-тонных. Впрочем, не в одних только актерских устремлениях было дело. По дороге на экран роман В. Пановой «Времена года» растерял человеческую индивидуальность своих персонажей. Их поступочные функции сохранились, а их характерность оказалась выпрямленной, упрощенной, схематичной. И тогда на месте большого, многослойного, с дыханием эпохи произведения, чему сходные формы находишь где-то в стороне фильма «Рокко и его братья», перед нами оказалась простенькая история перевоспитания блудного отпрыска благородного семейства.
Но сам этот отпрыск, Геня, воспринимается живым человеком, затесавшимся в пантеон восковых фигур. Там, где остальные актеры под руководством постановщика растеряли все подаренное автором, там Смоктуновский смог прикопить, добавить, изобрести, открыть свое...
Вот перед нами просто мать, чья характерность всецело исчерпывается поступочной колеей (задачей страдать за сына, но прикидываться строгой и ругать его за безалаберность); вот перед нами просто отец, не несущий ни одной краски, которая не была бы проекцией
* И. Смоктуновский, Вместе со своим героем.— «Литературная газета», 1963, 16 мая.
119
его сущности страдающего отца; вот остальные герои, чья наполненность не возвышается над событийной функцией образа...
И вот Геня. Любопытно, что как раз в событийном плане он беднее остальных. Он отдан усилиям других действующих лиц, он объект их деятельности, ни к чему не стремящийся, ни за что не борющийся. Но характер Гени торжествует над этой едва-едва намеченной событийной канвой образа. Характер собран по крохам: там — излюбленный жест, там — улыбочка, там — особая манера носить шарф, там — странная интонация, придающая сказанному прямо противоположный смысл. Каждая из этих крох — откровение. Каждая удивляет нас. А в результате в каждой такой крохе проглядывает особое целое, данное нам в процессе, в динамике. Оно возвышается над событийной канвой, оно — вне ее, оно — в оппозиции к ней. Оно расшифровывается словами Белинского о «знакомом незнакомце».
«Может показаться,— пишет А. Иноверцева об актерской индивидуальности Смоктуновского,— что актер дает лишь малую долю того, что он мог бы дать из найденного, нажитого, узнанного о герое. На самом деле он дает именно все, потому что каждый момент жизни его создания — это всегда и неизменно жизнь всего человека как он есть весь, как он есть целиком». И еще:
«Смоктуновский играет любого героя как характер единственный и единый. Вот почему актерская манера Смоктуновского отличается прекрасной плавностью, прекрасной непрерывностью. Он никогда не «останавливается», чтобы сыграть сцену, пусть самую важную: эта сцена обязательно возникает как движущаяся часть единого потока роли. В этом разгадка того удивительного на первый взгляд обстоятельства, что вершинами его ролей становятся молчаливые проходы или минуты кажущегося бездействия».
120Эта особенность его дарования и вместе с тем его актерского метода бросается в глаза, когда смотришь козинцевский «Гамлет».
Б. Пастернак заявлял категорически: — «Гамлет» не драма бесхарактерности, но драма долга и самоотречения... Безволие было неизвестно в шекспировские времена. Этим не интересовались. Облик Гамлета, обрисованный Шекспиром так подробно, очевиден и не4вяжется с представлением о слабо-нервности. По мысли Шекспира, Гамлет — принц крови, ни на минуту не забывающий о своих правах на престол, баловень старого двора и самонадеянный, вследствие большой одаренности, самородок. В совокупности черт, которыми его наделил автор, нет места дряблости, они ее исключают. Скорее напротив, зрителю представляется судить, как велика жертва Гамлета, если при таких видах на будущее он поступается своими выгодами ради высшей цели *.
Предшественники Шекспира по обработке того же сюжета не знали этой щедрости красок в обрисовке центрального персонажа. Их Амлет или Гамблет совершал те же поступки, но совершал не так. Он мстил за отца так, как, по мысли авторов, полагалось мстить, а не так, как это делалось. Узнавание в данном случае крылось для зрителя только в том, что происходило. В как узнавания не было.
Таким инструментарием не отомкнешь Шекспира. Если подойти к совершающемуся только с поступочной шкалой, станет действительно загадкой, почему, узнав тайну убийства отца в первом действии, Гамлет целых четыре действия выжидает, прежде чем принимается мстить. Он ищет более достоверные доказательства? Он переносит душевную депрессию? Он — безвольный че-
* Сб. «Литературная Москва», стр. 797.
121
Ловек. Он выжидает, чтобы не только покарать, но и воочию обличить?
Все это домыслы, напластовавшиеся за столетия аналитического муссирования пьесы. И все они лишаются оснований, как только мы не читаем трагедию, а смотрим. Тогда становится само собой понятным, что бессобытийные будто бы эпизоды «Гамлета» — остродраматичны. Это сцены самоистребления, выжигания души — чтобы подготовить ее к высокому жребию.
Козинцев и Смоктуновский осознанно делают эту линию основной в обрисовке Гамлета. Проходные, «вне-сюжетные» сцены выстраиваются в фильме в стройную драматическую систему. В том, как ходит, как смотрит, как говорит, как шутит, как молчит, как отвечает на вопросы Гамлет, — перед нами раскрывается особого рода драматургия, раскрывается в железной и увлекательнейшей поступательности. Рядом с поступком, внутри его Смоктуновский показывает истинную трагедию богатейшей личности, вынужденной расчеловечивать себя, чтобы покарать зло в этом бесчеловечном мире.
И ничуть не преувеличивает все та же А.Иновер-цева, когда бездействие Гамлета в фильме Козинцева она называет «бездействием персонажа чеховской драмы в обстоятельствах драмы шиллеровской». Присматриваясь к игре Смоктуновского, так и хочется сказать, перефразируя Чехова: «Убийство Клавдия — это еще не трагедия... Трагедия была в жизни Гамлета до этого и будет после. А убийство — так, случай...»
|
| Категорія: Фільм без інтриги | Додав: koljan
|
| Переглядів: 394 | Завантажень: 0
|
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі. [ Реєстрація | Вхід ] |
|
|



