Статистика
Онлайн всього: 2 Гостей: 2 Користувачів: 0
|
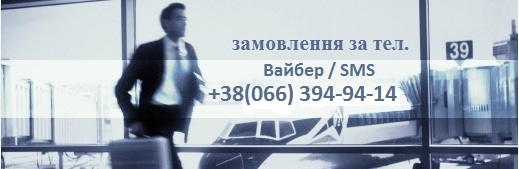 |
Матеріали для курсової |
В СТОРОНУ КОМЕДИИ
|
| 22.04.2014, 17:47 |
| Но прислушаемся к еще одному признанию Бабочкина: оказывается, светлые, жанровые, комедийные сцены фильма не были запланированы в их нынешнем
*«Новый мир», 1964, № 10, стр. 78.
110
виде. В процессе съемок и монтажа они как бы сами собой вышли на передний край, а трагедийная линия оказалась несколько приглушенной.
В самом деле, задуманный как трагедия, «Чапаев», конечно же, трагедией и остался. И все же — сколько раз во время его демонстрации в зрительном зале вспыхивает смех.
Наличие комедийной струи в вещах откровенного трагедийного накала — не новация последних дней. Общеизвестны почти анекдотические случаи, и среди них самый знаменитый — термин «комедия», цепляемый Чеховым почти к каждой из своих пьес, даже к тем, которые, как «Чайка», обрываются самоубийством главного героя.
Обратимся к Феллини, как к одному из самых интересных современных представителей обертонной драматургии. Мало того, что комическое и трагедийное смешалось в «Ночах Кабирии». Мало того, что «Бездельники», один из первых фильмов Феллини, назывался комедией, а был, подобно чеховским пьесам, исполнен светлой, но щемящей лирики. Вот один из последних примеров: Феллини упрямо называет «8 1/2» комическим фильмом. А ведь драматический накал этого повествования так высок, что в одну особенно тяжелую минуту его герой тоже протягивает руку к револьверу.
Отметим мимоходом, что комедию принято в самой общей форме делить на два основных рукава: комедия положений и комедия характеров. Пожалуй, ничего нет более далекого принципам обертонной драматургии, чем комедия положений. И, напротив, комическая струя вышеназванных произведений весьма близка именно принципам комедии характеров.
Странность, необычность, чудаковатость персонажей— вот что мы без труда находим в том и в другом случае. Причем странность эта — в костюме ли героя, в привычках его, в манере держаться, в излагаемых им
111
взглядах — странность особого порядка. Это не необычность, скажем, романтического героя, озадачивающего нас своей исключительностью. Это, совсем напротив,— странность обычного.
Да, именно странность обычного, рядового, повседневного. Собственно, такая странность оказывается единственной формой, в которой повседневное может претендовать на внимание художника и зрителя.. Странность эта — как бы индульгенция для обычного, как бы разрешение ему пробиться к зрителю. Странность эта — как бы особый миг повседневного, так сказать, праздничный его миг.
Вниманием к забавной околичности, к занятной дополнительной краске художник, с одной стороны, лучше постигает суть изображения явления, а с другой стороны, чуть-чуть его мистифицирует. Мистификация оказывается в данном случае кратчайшим путем к наилучшему выражению сути. Если художник в этом своем стремлении не знает границ, если он преувеличивает значение этой околичности, он закономерно приходит к карикатуре.
Феллини часто упрекают в суровой гротесковости почерка, так что, например, в «Сладкой жизни» фигуры второго плана превращаются в галерею карикатур.
— Это меня не смущает, — не раз и не два отвечал художник. — Карикатура предполагает моральное суждение о вещах.
Отметим, что он начал свой творческий путь с прямого создания карикатур. В первые годы после освобождения Рима от фашистов он зарабатывал на жизнь шаржами на американских солдат. Шаржи эти изготовлялись за две-три минуты и потом отправлялись заокеанским родственникам вместе с самодельной грампластинкой, на которой записывалась смешная абракадабра, рассчитанная на то, чтобы повеселить домашних. Сочинял абракадабру тот же Феллини.
112Не была ли эта оригинальная поденщина парази-тированием той одаренности Феллини, которая впоследствии развернулась во всю ширь в фильмах этого мастера и которую Н. Зоркая очень точно назвала «абсолютным зрением», на манер абсолютного слуха у музыкантов?
Вдвойне примечательно, что и Чехов пережил подобный «карикатурный» период на самой заре своей творческой деятельности. Он тоже был поставщиком невзыскательного юмора, сотрудником «Будильника» и «Стрекозы», в сущности говоря, полубульварных изданий.
Больше того. Как зорко отметил А.Роскин, Чехов начал не с подражания, с чего полагается начинать каждому, даже самому большому художнику, а с пародии. Пародия — это тоже подражание, но подражание особого рода, переосмысленное, целенаправленное, когда предмет подражания взят не в виде нормы, а в виде чего-то неестественного, странного, от нормы как раз отклоняющегося.
Пародия, собственно, всегда строится на противоречии как и что. Как берется от предмета пародии. Что, напротив, подкладывается из области, полностью этому предмету противопоказанной. Торжественным слогом, каким маститый бард повествует о героических вещах, вы заводите речь о вещах обыденных и безошибочно добиваетесь своего: это противоречие, вызывая у слушателей улыбку, обнажает пустую велеречивость мэтра.
Деформация стала путем к вычленению истины.
Внешнее подобие чему-то, скрупулезное, как бы даже сконцентрированное подобие становится для пародии средством разоблачения. Собирая по зернышку черты «средней» литературной продукции тех лет («Что чаще всего встречается в повестях, романах и т. д.» — первая опубликованная чеховская вещь) или изъясняясь Неповторимым слогом донского помещика Семи-Бу-
113
латова из села Блины-Съедены («Письмо к ученому соседу» — вторая опубликованная его вещь), Чехов не просто имитировал внешние черты явления, но и сгущал, концентрировал их — во имя разоблачения, развенчания того, что пряталось за ними.
Теперь давайте представим себе: а нельзя ли приспособить средства пародии для противоположных целей?
Это и будет обертонная драматургия.
Пародия, направленная не на разрушение, а на утверждение предмета, противоречие что и как, не унижающее, а возвеличивающее, «разоблачение», оборачивающееся восхвалением, — вот основа обертонной драматургии.
Станиславский рассказывает, что, наблюдая за происходящим на сцене, Чехов часто смеялся в тех случаях, когда, казалось бы, для смеха не было никаких оснований. Он смеялся не оттого, что происходящее было смешно, а оттого, что оно казалось ему очень верно, хорошо, чудесно переданным. Станиславский называет это чертой «непосредственного и наивного восприятия впечатлений», «смехом от удовольствия», который характерен только для самых непосредственных зрителей. Он вспоминает «крестьян, которые могут засмеяться в самом неподходящем месте пьесы от ощущения художественной правды».
— Как это похоже! — говорят они в таких случаях. Смешно оттого, что верно! Смешно оттого, что похоже!
Но и учитывая все это, Станиславский не переставал удивляться, с каким упрямством Чехов повторял, что МХАТ играет не то, что он написал, что он пишет комедии, а на сцене все время почему-то льются и льются слезы.
— Но вот же, вот! — указывали ему. — Ведь вы же сами пишете: «плачет», «сквозь слезы»...
114
Действительно, в одном только первом действии «Вишневого сада» читаем: «плачет», «плачет», «сквозь слезы», «сквозь слезы», «вытирает слезы», «плачет» и снова «сквозь слезы».
Но все дело в том, как плакать, или, точнее, как должны были восприниматься эти слезы зрителем.
По мысли Чехова, эти слезы вовсе не должны были рождать у зрителя слезливый же отклик. И вот с этим Станиславский никак не мог согласиться. Даже авторитетное мнение Горького о том, что МХАТ неверно ставит Чехова, захлестывая комедийную струю слезливой и тоскливой интонацией, не заставило Станиславского отказаться от привычной трактовки чеховской драматургии.
Попробуем проникнуть в ход его рассуждений. О чем, собственно говоря, «Вишневый сад»? Или «Три сестры»? Или «Чайка»? О хороших и несчастных людях. Причина их несчастья потеряла конкретные очертания: она растворена во всех обстоятельствах их жизни. Сам жизненный порядок таков, что обрекает человека на тоску, на страдания, на бездеятельную мечтательность. Какая же тут может быть комедия? Комедия о том, как мучаются хорошие люди? Ведь не разоблачить же этих людей намеревается автор, не унизить же их? Какой же тут может быть смех? Нет, реакция зрителя должна быть только такой: сочувствие, сострадание, сопереживание. Совместный плач.
А между тем именно смех-то и должен стать реакцией зрительного зала. Чехов меньше всего похож на блаженненького служителя муз, не ведающего, что вылилось из-под его пера. Только смех, которого жаждал Чехов, это не привычно-комедийный смех. Не смех развенчания, а смех утверждения. Смех радости. Радости оттого, как верно, как хорошо, как тонко схвачено. Радости оттого, что узнаешь хорошего человека через микроскопическую деталь, в которой он открывается
115
во весь свой рост и во всем своем объеме. Радости как реакции на противоречие как и что. Радости как результата пародии с обратным знаком.
Такой же смех радости стоит в зрительном зале и на просмотре «Чапаева». Вот, вынужденный отвечать на прямой вопрос: «Василий Иваныч, ты за кого, за большевиков или за коммунистов?», Чапаев попадает в ситуацию, несвойственную, казалось бы, легендарному полководцу. Стремление скрыть свою растерянность, уйти от прямого ответа, предпринять этакий обходной маневр, схитрить — тоже, казалось бы, не характеризуют его с хорошей стороны. Иной уже готовится обличить художников, поставивших замечательного военачальника в такое положение. Но тут Чапаев разжимает уста и своим неповторимым тоном произносит: «Я за Интернационал». И мы смеемся, как те отмеченные Станиславским крестьяне, «от ощущения художественной правды», от ощущения верности.
Тут, конечно, не только как. Тут есть и что: удовольствие от того, что наш герой нашелся, выкрутился из безвыходного, казалось, положения. Однако все дело в том, в какую сторону выкручиваться. Находка Чапаева должна бы, кажется, довершить развенчание героя. А она, напротив, возвеличивает его в наших глазах.
Во дает! — говорит зритель из простодушных,
восторженно покачивая головой.
Оригинал! — вторит другой.
Поистине неповторим!—заключает третий.
Эта вот радость — оттого, что мы поняли неповторимость данного человека — как раз и лежит в основе механизма обертонной драматургии.
Так поистине неповторим Сережа, герой фильма Г. Данелия и И. Таланкина. Так неповторимы обитатели маленького грузинского села из прекрасного фильма Т. Абуладзе «Я, бабушка, Илико и Илларион». Так неповторим Гамлет — Смоктуновский.
|
| Категорія: Фільм без інтриги | Додав: koljan
|
| Переглядів: 361 | Завантажень: 0
|
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі. [ Реєстрація | Вхід ] |
|
|



