Статистика
Онлайн всього: 5 Гостей: 5 Користувачів: 0
|
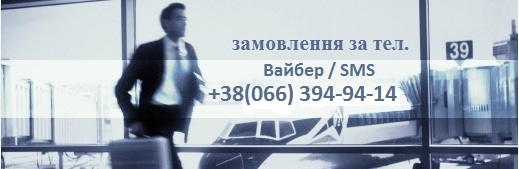 |
Матеріали для курсової |
КОРОЛЬ ЛИР И ДЯДЯ ВАНЯ
|
| 22.04.2014, 17:46 |
| Сразу же после «Броненосца» Эйзенштейн приступил к работе над «Генеральной линией». Фильм вышел на экран под названием «Старое и новое». И нашлись два современника, увидевшие в фильме коллекцию «самых пошлых» и «омерзительных» стандартов:
«1. Деревенский кулак, толстый, как афишная тумба, человек с отвратительным лицом и недобрыми, явно антисоветскими глазами.
Его жена, самая толстая женщина в СССР. Отвра-
тительная морда. Антисоветский взгляд.
Его друзья. Толстые рябые негодяи. Выражение
лиц контрреволюционное.
Его бараны, лошади и козлы. Раскормленные тва-
ри с гадкими мордами и фашистскими глазами».
К этому следует добавить «стандарт положительного персонажа — худое благообразное лицо, что-то вроде апостола Луки, неимоверная волосатость и печальный взгляд»,— и в заключение — «венец стандарта: деревенская беднота, изображенная в виде грязных идиотов».
Два эти современника — Илья Ильф и Евгений Петров.
«Конечно, — пишут они, — Эйзенштейн знал, что не все кулаки толстые, что их классовая принадлежность определяется отнюдь не внешностью. Знал он и то, что собрание ультрабородатых людей в одном месте не обязательно должно быть собранием бедноты.
Несомненно, все это сделано намеренно. Картина нарочито гротескна. Штампы чудовищно преувеличены.
92
Этим Эйзенштейн хотел, вероятно, добиться особенной «остроты и резкости и обнажить силы, борющиеся в деревне» *.
Запальчивость этих строк объяснима. Дело в том, |что оружие сатириков и юмористов — выявление несо-ответствия: несоответствия формы и сути, внешнего и внутреннего, кажущегося и истинного. Величина и характер этого несоответствия как раз и производит, если верить ученым книжкам, комический эффект. Здесь же перед нами не только точнейшее соотнесение внутреннего с внешним, но даже и нереальное, условное, плакатное их тождество.
Помните у Ленина замечание о том, что частное не есть общее, наряженное в одежды частного случая, что частное шире, богаче, многообразнее общего? Теперь задайтесь целью привести это частное в полное соответствие с заключенным в него общим. Это будет путь обеднения частного, и если вы добьетесь своего, — знаете, что окажется перед вами? Маска. Маска — как предел обобщения. Как символ. Как условный знак.
Теперь продолжим высказывание Эйзенштейна об обертонном монтаже, оборванное нами в предыдущей
главе:
— Когда он является одновременно мыслью, еще не принявшей иной формы выражения, обертон начинает звучать образом куска. Еще шаг — и он прочитывается как «смысл» куска. Этого не следует забывать, но еще опаснее только об этом помнить! Здесь высшая точка встречается с... низшей: один «смысловой» монтаж — то есть только по смыслу сюжета, анекдотическому содержанию куска, без учета комплекса всех остальных элементов и их совокупности — еще ничего общего с настоящим произведением искусства не имеет, сколько
* И. Ильф и Е. Петров, Собрание сочинений в 5-ти томах, т. 2, М., Гослитиздат, 1961, стр. 463—466.
93
бы потуг ни предъявляли экранные явления, сверстанные по этому признаку. Совершенно так же, как... бессмысленны произведения, сверстанные без учета смысла кусков в угоду всему иному!
Итак, две опасности, два полюса: на одном — отсутствие обертонов, на другом — избыток. На одном — лишь «голый смысл», «главное», на другом — набор околичностей. Первое ведет к схеме. Второе — к абракадабре.
Но ведь именно в нехватке обертонов и упрекают «Старое и новое» два сатирика. Их возмутило, что все персонажи фильма несут свою сущность в оголенном, удобном для обозрения виде.
Помните у Чехова:
Скажите, какое правительство в Турции?
Известно какое. Турецкое.
Здесь то же самое:
Скажите, какая внешность у кулака?
Известно какая. Кулацкая.
А у бедняка?
Само собой, бедняцкая.
— А у середняка? А у подкулачника? А у предсель-
совета?
И так далее до бесконечности. Здесь что и как связаны железобетоном. Какая уж там диалектика, если как — это просто-напросто что, только прикинувшееся как, нарядившееся в одежды частного случая.
Возможно ли такое искусство?
Без сомнения. Больше того: разнообразие обертонов — это завоевание сравнительно недавнего прошлого.
Мы говорили об эволюции отношения драматурга к подробностям: их мало у Софокла, побольше у Шекспира и очень много у Чехова. Процесс накопления обертонов— это другой аспект той же самой эволюции.
Вот царь Эдип, Убийца своего отца, муж своей матери, спаситель Фив от вещуньи Сфинкса, мудрый прави-94
тель города в течение многих лет, он, прослышав о своих грехах, совершенных по неведению, убедившись в проклятии богов и в том, что стал позором родной земли, в гневе ослепляет себя и добровольно отправляется
в изгнание.
Что и говорить, натура недюжинная. В специальной литературе мы найдем философское осмысление этого образа, образа, как видим, редкой насыщенности.
И вся сущность Эдипа раскрылась перед нами в цепи его поступков. Нас поражает, удивляет, удручает, восхищает, ввергает в состояние катарсиса именно то, что случилось с ним, то, что он совершил в таких-то и таких-то обстоятельствах. Подноготная Эдипа этими поступками вскрыта полностью. Она ими исчерпана.
Но на нынешний взгляд в Эдипе маловато индивидуального. В его характерности маловато обертонов. Он недостаточно этот, если вспомнить слова Гегеля. Внутренняя задача художника, система избранных им средств не требовали этих дополнительных тонов и даже исключали их. В границах избранной Софоклом поэтики поступок — точнейший и исчерпывающий эквивалент человеческой сущности.
В наши дни характеристики древних уже недостаточно.
Это отметил еще Энгельс.
Мы привыкли к его словам, а между тем они способны вызвать удивление.
— Как — недостаточно? Да ведь театры всего мира и по сей день ставят древнегреческих авторов! И зритель не ропщет! Кушает да похваливает!
Мы воспринимаем эти трагедии не так, как их воспринимал древнегреческий зритель. Скудость обертонов оборачивается сегодня особого рода характерностью. Древнегреческий зритель просто-напросто не замечал котурнов и резонаторов — для него они не были условностью. У нас же котурны и резонаторы — даже если
95
они остаются метафорическим обозначением стиля, ключа постановки — придают всему зрелищу неповторимое своеобразие.
Вот не очень точная аналогия: человек, решивший в наши быстробегущие дни обходиться услугами солнечных часов, наверное, очень мало преуспеет, не правда ли? Но все мы, когда представится случай, непрочь постоять у дряхлой, выщербленной плиты, полюбопытствовать, что там показывает стрелка-тень, с тем, однако, чтобы тут же сверить эти данные с показаниями циферблата, мирно тикающего на левой руке.
Сравнением, постоянным сравнением необычного для нашего глаза зрелища с тем, что распространено в наши времена как норма драматического истолкования характера, — вот чем подкрепляется наше восхищение пьесами древних корифеев.
Но, конечно, с этим ветхим инструментарием не подступишься к задаче изваять характер современника. Впрочем, сто лет тому назад такие попытки были довольно часты. К одной из них как раз и относится вторая знаменитая сентенция Энгельса:
— На мой взгляд, личность характеризуется не только тем, что она делает, но и тем, как она это делает.
Речь шла о пьесе «Франц фон Зикинген». Характерность героев этой пьесы измерялась только по одной шкале, шкале поступков, шкале что. Драматург подходил к герою по принципу: сделал — не сделал, совершил— не совершил, совершил хорошее — совершил нехорошее. Этакий анкетный подход: был, не был, не имеет, не привлекался... А ведь каждое из этих был — не был имеет тысячи оттенков, идущих от своеобразия данного случая в общем однотипном ряду.
Энгельс объяснил увлеченному автору, что его персонажи станут объемными только в том случае, если он воспользуется второй шкалой, шкалой как. Их сопо-96
ставленй, как сопоставление оси абсцисс и оси ординат (по одной из них откладываются поступки, а по другой— индивидуальное самочувствие человека внутри каждого из этих поступков), позволяет вычертить фигуру персонажа с необыкновенной точностью, выпуклостью, убедительностью.
Обычно, говоря о многомерности характера, указывают на Шекспира. Так поступил и Энгельс. Так за много лет до него поступил и Пушкин. Ведя речь об ограниченности Мольера, он противопоставил всегда однозначному Тартюфу Шейлока, у которого доминанта характера вовсе не исключает, но даже предполагает дополнительные краски.
Классицисты, копировавшие поэтику антиков, уже откровенно распрямляли, упрощали человеческую характерность, сводили ее к одной, заведомо выпячиваемой черте, начисто отбрасывая все остальное. Отсюда неизбежная статичность их персонажей: как здесь в точности соответствует что. Шекспировские характеры, напротив, всегда в динамике, ибо их как всегда в противоречии с их что. Противоречие это диалектично: оно-то как раз и порождает движение, становление характера. Противоречие это может рождать комедийный эффект, но способно и к иной эмоциональной окраске.
Все решают дозы, качества, способ проявления противоречия.
Недавно в английской прессе с горячностью комментировалась дерзость популярного молодого драматурга, который объявил, что «Гамлет» — хорошая пьеса, но она только выиграла бы, не будь в ней истории с призраком.
Вряд ли стоило особенно гневаться. Бесцеремонное это заявление — по сути своеобразный комплимент «дедушке Шекспиру». Молодой драматург без раздумий принимает «Гамлета» в современный театр, и только некоторые излишества интриги его смущают.
97
А с интригой отношения у Шекспира вовсе не так безоблачны, как кажется на первый взгляд. Она помогает ему, столкнув героев в острейших коллизиях, выплеснуть в накале страстей истинную сущность их характеров. Но она же и мешает ему, навязывая всякого рода машинерию, традиционные для драматургии того времени сцены погонь и поединков, явления призраков, раскручивание механизма злодейских козней.
Прислушаемся к авторитетному голосу Бориса Пастернака, много переводившего Шекспира:
«В начальных и заключительных частях своих драм Шекспир вольно компонует частности интриги, а потом так же, играючи, разделывается с обрывками ее нитей. Его экспозиции и финалы навеяны жизнью и написаны с натуры, в форме быстро сменяющих друг друга картин с величайшею в мире свободой и ошеломляющим богатством фантазии.
Но в средних частях драм, когда узел интриги завязан и начинается его распутывание, Шекспир не дает себе привычной воли и в своей ложной старательности оказывается рабом и детищем века. Его третьи акты подчинены механизму интриги в степени, неведомой позднейшей драматургии, которую он сам научил смелости и правде. В них царит слепая вера в могущество логики и то, что нравственные абстракции существуют реально. Изображение лиц с правдоподобно распределенными светотенями сменяется обобщенными образами добродетелей и пороков.. Появляется искусственность в расположении поступков и событий, которые начинают следовать в сомнительной стройности разумных выводов, как силлогизмы в рассуждении».
И затем еще определенней: «Четыре пятых Шекспира составляют его начала и концы. Вот над чем смеялись и плакали люди. Именно они создали славу Шекспира и заставили говорить о его жизненной правде в противоположность бездушию ложноклассицизма.
98
Но нередко правильным наблюдениям дают неправильные объяснения. Часто можно слышать восторги по поводу «Мышеловки» в «Гамлете» или того, с какой железной необходимостью разрастается какая-нибудь страсть или последствия какого-нибудь преступления у Шекспира. От восторгов захлебываются на ложных основаниях. Восторгаться надо было бы не «Мышеловкою», а тем, что Шекспир бессмертен и в местах искусственных. Восторгаться надо тем, что одна пятая Шекспира, представляющая его третьи акты, временами схематические и омертвелые, не мешает его величию. Он живет не благодаря, а вопреки им» *.
Припомним, что и Эйзенштейн противопоставлял Шекспира Бену Джонсону. Последнего великий режиссер считает чистым представителем трагедии интриги. У Шекспира же — рядом с интригой, за ней, вне ее — Эйзенштейн находит черты, родственные поэтике... Чехова!
Это замечание кажется странным только на первый взгляд. Ведь действительно Шекспир — середина того пути, которому Эсхил и Софокл — начало, а Чехов (пока что) вершина. У Шекспира первого поступок перестал исчерпывать сущность персонажа. Он первый берет человека тоньше, глубже, внутри его поступка, в смене настроений, в многомерности, в многоликости, в противоборстве желаний и нежеланий, в незавершенности этого противоборства на протяжении одной только сцены или одного акта. И когда мы чествуем Чехова как великого реформатора сцены, уместно почаще вспоминать и о новаторских опытах его далекого предшественника.
Кстати, Эйзенштейн не первым сопоставил два этих имени. До него это делал Лев Толстой, решительно объ-
99
* Сб. «Литературная Москва», вып. 1, М., Гослитиздат, 1956, стр. 799—800.
являвший, что один из них пишет ужасно, а другой — еще хуже.
Подробно, сцену за сценой, разобрав «Короля Лира», Толстой воздал хвалу анонимному предшественнику Шекспира по разработке того же сюжета: дошекспиров-ская пьеса о Лире превосходит будто бы трагедию и по своим художественным достоинствам и по нравственному значению. Нравственное ее значение, впрочем, исчерпывается откровенно дидактической задачей: разжалобить зрителя зрелищем страданий хорошего отца от козней нехороших дочек.
Отступление от этой «определенности» Толстой вменяет в вину Шекспиру. Он отказывается видеть, что, потеряв наивную слаженность и симметричность первоисточника, приобретя сцены, не продиктованные вроде бы прямой необходимостью логики действия, трагедия Шекспира обогатилась психологической глубиной, осмыслением значительных социально-философских идей, что сюжет о разделе королевства стал основой для произведения о распаде общества.
Точно так же и пьесам Чехова Толстой обращает упрек в «неопределенности».
— Где тут драма? В чем она? Пьеса топчется на одном месте. Что ему нужно? — Речь шла об Астрове.— Тепло, играет гитара, славно трещит сверчок. А он хотел сначала взять чужую жену, теперь о чем-то мечтает...
И все это говорится по адресу «Дяди Вани», вещи почти трагического накала!
Толстой отказывался видеть драму в ситуации, лишенной внешних драматических обстоятельств. Отсутствие тоновых сопоставлений позволяет ему высокомерно отмахнуться от сопоставлений оберточных.
Оглянемся на пройденный путь. У Софокла динамика что сопровождалась ограниченным, статичным как. Шекспир сочетает динамику того и другого. У Чехова
100
статично как раз что, зато именно как живет кипучей, динамичной, бьющей ключом жизнью. В условиях его I поэтики именно как — не тоновая, а обертонная сущ-
ность происходящего — становится средством разверты-
вания драматического конфликта.
|
| Категорія: Фільм без інтриги | Додав: koljan
|
| Переглядів: 365 | Завантажень: 0
|
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі. [ Реєстрація | Вхід ] |
|
|



