Статистика
Онлайн всього: 5 Гостей: 5 Користувачів: 0
|
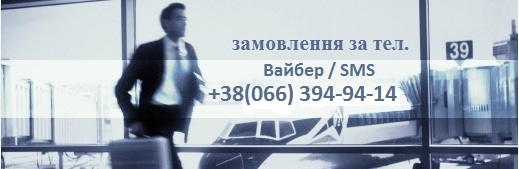 |
Матеріали для курсової |
КАПЕЛЬНАЯ ДРАМАТУРГИЯ
|
| 22.04.2014, 17:45 |
| Но коли уж мы упомянули об Эйзенштейне, переучтем и еще одну его заметку:
«Передо мной лежит мятый пожелтевший листок бумаги. На нем таинственная запись: «Сцепление — П» и «Столкновение — Э». Это вещественный след горячей : схватки на тему о монтаже между Э — мною и П — Пу-довкиным... С регулярными промежутками времени он заходит ко мне поздно вечером, и мы при закрытых дверях ругаемся на принципиальные темы. Так и тут. Выходец кулешовской школы, он рьяно отстаивал по-
* С. Эйзенштейн, Избранные произведения в 6-ти томах, т. II, М., «Искусство», 1Р64, стр. 548.
81
нимание монтажа как сцепления кусков. В цепь. «Кирпичики». Кирпичики, рядами излагающие мысль. Я ему противопоставил свою точку зрения монтажа как стол-кновения. Точка, где от столкновения, двух данностей возникает мысль. Сцепление же лишь возможный -частный — случай в моем толковании»*.
Мы с вами до сих пор пользовались еще более общим термином — сопоставление. Coвершенно очевидно, что сопоставление может быть столкновением и может быть сцеплением. Принцип Пудовкина — это принцип линии. Принцип Эйзенштейна — это принцип точек. Но что же, собственно, есть линия, как не шеренга точек, выстроившихся друг дружке в затылок?
Линия царствовала в живописи весьма долгое время. Даже работая в технике масляных красок, художники еще очень долго прибегали к условному черноватому контуру, которым обводилась изображаемая фигура. Затем пришла пора раскрепощения мазков, они получили право на некоторую,, а затем уже и на довольно заметную автономии), так что импрессионисты, например, заменяли механическое смешивание красок на палитре смешиванием в глазу зрителя чистых тонов, положенных рядом на холсте. Это было как раз возвышение от частного случая, от сцепления, к более общему, к столкновению.
Затем — пуантилисты. Те вообще все полотно считали энным количеством разноцветных точек. Каждая из них была сама по себе, и, только смешавшись в глазу зрителя, они давали ощущение форм и объемов. Предельный случай принципа столкновения.
Для Сера или Синьяка картина — вереница лейтмотивов. Обыкновенный морской пейзаж строится на повторяемости нескольких красок: желтой, синей, зеле-
* Эйзенштейн С. Избр. произ. В 6 т. Т.2. С.290.
82мой, бетой. Только там, где берег,— побольше желтой, там, где море, -преобладает зеленая, там, где небо,— главенствует синь.
Неужели драматург хотя бы в виде исключения не может воспользоваться аналогичной структурой?
Любопытно, что возможность такого рода драматургических структур не ускользнула от внимания Эйзенштейна. При жизни его, правда, не появилось ни одного фильма, который можно было бы счесть полноценным предтечей сегодняшних «раскованных > композиций. Но зоркость мыслителя заставила великого режиссера с интересом присмотреться к голливудскому фильму «Че-ловеческая комедия». И вот что он обнаружил: что фильм этот, как и одноименная повесть Уильяма Саро-яна, легшая в его основу, «кажутся свободно нанизанными друг за другом, независимыми эпизодами — часто без начала и конца; на самом же деле они представляют собой тончайше слепленную ткань единой тематической картины, которую так же строго сдерживает единая внутренняя система лирических лейтмотивов, как держат в едином напряжении пьесу Скриба или детективный роман — внешние перипетии головокружительной интриги» *.
Так вот, представьте себе на минутку, что перед вами фильм, в котором нить интриги заменена десятком, сотней иных, нежнейших и тончайших ниточек. Фильм, в котором не семь «блоков» и «узелков», а семижды семь. И каждый из этих микроэпизодиков, как точка у пуантилиста, обособлен и самостоятелен, связан с другими только родством лейтмотива. Тогда на зрителя ложится задача отыскивать подспудную, неповерхностную связь эпизодов.
— Это невозможно! — скажете вы.
* Эйзенштейн С. Избр. произ. В 6 т. Т.3. С.306.
83
.
— А разве пятьдесят лет назад нынешние достижения кино казались кому-нибудь возможными?
— Это чрезвычайно трудно! — скажете вы.
Да, для начала. Как в свое время было трудно следить за монтажом Гриффита, а позже — ухватывать смену ракурсов в «Броненосце», а еще потом — поспевать за бегающей, прыгающей и падающей камерой в фильме «Летят журавли».
Трудно, да. Но неизбежно.
Польский фильм «Конец нашего света» — вот типичный пример трудности такого рода. Она — в отсутствии авторских помочей, к которым привык зритель. Эта сложность фильма, которую с готовностью признает и его режиссер Ванда Якубовская, состоит в том, что в отличие от многих других произведений на аналогичную тему фильм раскрывает ужас фашистского концлагеря с заведомым отвращением к сочиненной выстроенноенности событий.
Фильм открывается нашими днями. Герой его, польский инженер, подвозит случайных попутчиков, заокеанских туристов, в Освенцим, город смерти, превращенный сегодня в музей. Герой этот когда-то сам был узником Освенцима. Сейчас, следуя за экскурсоводом от барака к бараку, он вспоминает то, чему стал свидетелем в те далекие, страшные годы. Его воспоминания разворачиваются перед зрителем не в хронологическом порядке, а по особой, «поэтической» логике: история того, как наш герой попал в концлагерь, оказывается где-то в середине громадной картины, а еще позже мы становимся свидетелями двух-трех эпизодов его долагер-ной жизни... В этой видимой раскованности угадывается вполне определенная система. Ужас жизни обитателей концлагеря — вот что стало здесь предметом изображения. То, что для другого фильма могло стать лишь фоном, материалом для фабульной истории, взято здесь предметом изображения. Для того чтобы лучше, яснее, 84
определеннее рассказать об отношениях героя со своей женой, которую он встречает среди обитательниц соседнего, женского лагеря, можно было бы применить иное построение: с традиционной завязкой, перипетиями. Но для того чтобы вскрыть ужас концлагеря, выявить бесчеловечную сущность самой обычной, самой рядовой минуты, проведенной там, нельзя было отыскать иную форму, такую, допустим, когда все держится «на связях и знакомстве персонажей». Это было бы художественной неправдой. Это было бы фальшью. Придумкой.
Другой, может быть, самый показательный пример — фильм «8'/2». «Сложность» и «трудноусвояемость» этого фильма, о которых так часто упоминалось в нашей прессе, диктуются главным образом тем, что метод сопоставления стал здесь ведущим методом развертывания сюжета. Заинтересовавшая Феллини проблема взаимоотношения художника и общества не замоделирова-на здесь в фабульных поворотах. Она подается зрителю той степенью художнической пристальности, с которой Феллини приглядывается к рядовым, будничным обстоятельствам жизни своего героя — кинорежиссера Гвидо Ансельми. Говорить людям правду, только правду— вот к чему стремится Гвидо в своем творчестве. Но постичь эту правду — трудно. На пути к ней приходится бороться с самыми различными препятствиями, из которых главное — он сам, та часть его души, которая извращена неестественными, уродливыми условиями жизни в неестественном, уродливом обществе... Сны Гвидо, воспоминания о детских годах, затейливая игра его воображения, эпизоды из его будущего фильма, все это включено Феллини в живую ткань произведения, и в своей совокупности все это, несмотря на не-объединенность фабульной канвой, образует гармоничное единство — только опять-таки не единство «знакомств и отношений», а то самое единство, когда «своды сведены так, что нельзя и заметить, где замок».
85
Впрочем, сам Феллини не считает свою картину сложной.
— Это очень простой фильм, — говорил он зрителям; собравшимся на просмотр «8 1/2» во время Третьего Московского фестиваля. — Представьте себе, что однажды вы встречаете своего знакомого, и он говорит: «Я вам расскажу сейчас кое-что о своей жизни, несколько веселых и грустных эпизодов, и вы узнаете, что я собой представляю». Не надо искать в моем фильме какой-то особой глубины, чего-то сложного и трудно уловимого. Все, что в нем есть, лежит на поверхности. И оно очень просто.
Но в беседе с одним советским журналистом Феллини изложил ту же мысль в несколько ином повороте.
Этот поворот должен нас в особенности заинтересовать. «Феллини. Я хотел показать всю вселенную, которая представляет собой человеческое существо.
Корреспондент. Значит, это должен быть портрет человека во многих измерениях? Более, чем в трех? Феллини. Вот именно: в трех, четырех, десяти, ста! Я задумал фильм, в котором человек был бы взят в самых разных планах: в плане его физической жизни, в плане мечтаний, воспоминаний, игры воображения, предчувствия... Рассказать об этом так, чтобы из хаотического, противоречивого, путанного общего возникало бы во всей своей сложности некое человеческое существо.
Корреспондент. По своей форме, синьор Феллини, ваш последний фильм, несомненно, весьма сложен, гораздо сложнее предыдущих ваших работ. Что вы думаете в этой связи о проблеме доходчивости художественных произведений?
Феллини. «8'/г» не кажется мне сложным фильмом. Тут мне хотелось бы отметить следующее. Кино — это насилие над способностью зрителя к восприятию. Оно говорит таким языком, при помощи которого легче
86
(Всего подчинить зрителя своему воздействию. Кино не Доставляет возможности поразмыслить — той возможности, которую имеет человек, читающий книгу или созерцающий живописное полотно. И потому между зрителем и кинематографическим повествованием уже вы-работалась своего рода форма соучастия. Она облегчает зрителю это насилие. Автор фильма на протяжении всего повествования без конца льстит зрителю, заранее подсказывая ему, чего следует ожидать дальше. Эта форма негласного соглашения между зрителем и художником как раз означает полную закабаленность зрителя.
И. происходит нечто странное: те произведения, которые не говорят на условном языке, то есть не дела- ют зрителя участником этого своеобразного сводничества, те произведения, которые свободны и говорят свободно, рискуют оказаться трудными для понимания — не потому, что они трудны, а потому, что зритель привык к кино, играющему в поддавки, говорящему на условном языке. Это подтверждается и тем, что происходит с моим фильмом.
Я неоднократно имел возможность наблюдать, что
«8'/2» оказывается трудным для понимания именно той части филистерской публики, которая мыслит условными категориями и, просматривая фильм, стремится по- нять его в сопоставлении с заранее избранными образцами, схемами, концепциями. Это напряженное желание приспособить фильм к старым, хорошо апробиро- ванным схемам ведет, в конце концов, к тому, что лишает зрителя необходимой ему свободы коммуникации, свободы общения с создателем фильма» *.
Феллини, может быть, самый скромный из новато- ров. Ему говорят: «Ваш фильм сделан в манере Пру-
* Текст интервью любезно предоставлен в наше распоряжение Г. Д. Богемским.
87
ста». Он пожимает плечами: «Я не читал его». Его уверяют:
«Ваш метод — смесь методов Годара и Рене». Он снова
невозмутим: «Весьма возможно, только я не видел ни
одного фильма Годара». Он не сторонник
широковещательных манифестов, громких слов:
дедраматизация, дегероизация...
Он простодушно творит по тем законам, которые
кажутся ему наилучшими, чтобы сказать людям то,
что он хочет сказать.
Это делает его признания в особенности примечательными.
|
| Категорія: Фільм без інтриги | Додав: koljan
|
| Переглядів: 354 | Завантажень: 0
|
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі. [ Реєстрація | Вхід ] |
|
|



