Статистика
Онлайн всього: 5 Гостей: 5 Користувачів: 0
|
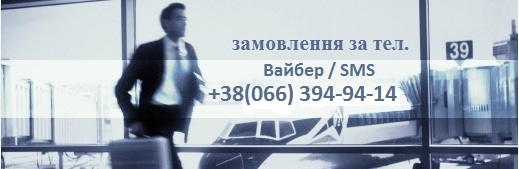 |
Матеріали для курсової |
30% ИСААКА БАБЕЛЯ
|
| 22.04.2014, 17:47 |
| Теоретики еще не сговорились, в чем искать конфликт «Чапаева». Конфликт — это борьба, столкновение. Чапаев борется с беляками, с их руководителем, полковником Бороздиным. Чапаев сталкивается с комиссаром Фурмановым, не желающим прощать легендарному комдиву его недисциплинированность. Какое из этих столкновений главное, а какое — второстепенное? Теоретики судят и так и этак.
Борьба красных с белыми — реальный жизненный конфликт, расколовший в ту эпоху всю страну на два лагеря. Его прямолинейным отражением в искусстве стали произведения, оперирующие подходом к героям по принципу свой — чужой. Крайним случаем этого подхода была поэтика агитки. Там свой всегда оказывался и умным, и ловким, и смелым, и вообще человеком широкой души. Там чужой всегда был и трус, и глупец, и недотепа, и вообще подонок по всем статьям. Эта поэтика не нуждалась в обертонах. В рамках этой поэтики поступок героя, событие — единственное средство изложения авторской мысли. Если наш обхитрил, обманул, объегорил ихнего, значит, он лучше, возвышеннее, значит, и идея, отстаиваемая им, замечательная, непобедимая идея. Благополучный финал цепи приключений героя и торжество его идеи казались создателям агиток вещами принципиально нерасторжимыми.
Герой агитки всегда был самый: самый смелый, самый ловкий, самый хитроумный. Он с головы до ног
101
красился в голубую краску. Его антагонист был столь же однообразно окрашен в черное. Он тоже самый, но только со знаком минус: самый злой, самый кровожадный... Здесь окончательная, итоговая сущность характера простодушно лежала на его поверхности. Сущность, контрреволюционера — бесчеловечность? Ну так он и бесчеловечен каждым своим словом, каждым движением, каждым жестом.
Помните, как в былинах татарский хан с полной серьезностью смотрел на себя глазами автора? «Служил бы ты мне, татарину, собаке поганой...» — без тени иронии уговаривал он Илью Муромца. Это — тот же принцип.
Это было типично не только для кино. В советском театре той поры тоже можно выделить два крайних направления: линию тонового драматизма (его иллюстрация— творчество Всеволода Вишневского и Билль-Бе-лоцерковского) и линию драматизма обертонного (в лице, например, Михаила Булгакова или Исаака Бабеля). Конечно, художественное значение «Шторма» или «Первой Конной» не идет ни в какое сравнение с «Серпом и молотом» или «ПКП» (были такие фильмы). Но мы сейчас условно выделяем устремления авторов, закрывая глаза на неравноценную их реализацию. Вспомните, кстати, знаменитое письмо Билль-Белоцерков-ского на имя Сталина с просьбой присмотреться к «Дням Турбиных». В письме этом прозвучала все та же наивная убежденность, что чужие не могут быть хорошими. — Если белые выведены людьми, страдающими, переживающими, влюбляющимися, знающими цену дружбе,— разве может такое произведение показать торжество идей красных, их всесокрушающую силу?
Оказывается, может. Парадоксальная ситуация: политический деятель разъясняет художнику, что тот подходит к произведению искусства слишком примитивно, с внеэстетических, по сути дела, позиций.
102
Нет, спор Чапаева с полковником Бороздиным — это не спор примитивно материализованных идей. Их спор — спор характеров, жизненных программ, мировоззрений. И он, конечно, не укладывается в хорошо наезженную событийную колею. Чапаев, физически уничтоженный в этой борьбе, оказывается все же победителем, а Бороздин, его убийца, выглядит безнадежно проигравшим.
Правда агитки была правдой самого первого, поверхностного приближения. К ней смело можно адресовать слова Эйзенштейна о «смысловом» монтаже, «то есть только по смыслу сюжета, анекдотическому содержанию куска — без учета комплекса всех остальных элементов и их совокупности». Путь от агитки к искусству шел через ее обогащение обертонами.
Но для этого необходимы были многие перемены: перемены и в технологии производства фильмов, перемены и в форме записи сценария, и в отношении режиссера к драматургу.
В те годы Эйзенштейн обронил многозначительную фразу о том, что в рассказах Бабеля он находит 70% того, что ему, режиссеру, нужно, а в сценарии того же Бабеля — только 30%. Фамилия Бабеля здесь особенно примечательна. Не будет преувеличением назвать этого писателя одним из самых чистых обертонистов мира (имея в виду и прозу его и драматургические работы). Но любопытно еще и то, что позднее Эйзенштейн захочет именно в Бабеле найти соавтора по последнему варианту сценария «Бежин луг». А до тех пор, решительно отвернувшись от обертонного опыта прозы и драмы, Эйзенштейн желал обрести искомое в особой форме сценария как «стенограммы эмоционального порыва».
Тут-то и появился сценарист Александр Ржешев-ский. Чем были его шумные опыты, как не попыткой удовлетворить тягу кинематографа к новому типу сценария, к такому, который не ограничился бы лапидар-
103
ным изложением событийной канвы, но поставлял бы режиссерам дополнительные краски, причем краски оригинальные, не очевидные по контексту?
Сюжеты всех его сценариев были по-плакатному банальны и примитивностью своей вполне достойны агиток. Но их схематичной выверенности автор изобретательно противопоставлял озадачивающие, шокирующие краски. Обертоны тут были налицо. Только вот беда: они не были найдены, подсмотрены, выслежены. Они были сконструированы, сочинены. Противоречие между что и как здесь бросалось в глаза. Только это было пустое, механическое, недиалектическое противоречие. Оно не содержало в себе открытия, узнавания. Оно было мнимым.
И сколько бы ни удивляли нас неожиданные краски в характеристике персонажей и фабульные экстравагантности фильма «В город входить нельзя», наше постижение сущности происходящего ничуть не поднималось над тезисом о том, что революция, расколовшая страну на два лагеря, разводила по разную сторону баррикад даже членов одной семьи..
— Простите, товарищи! Все, что могу! — прокричал, например, некто Собин, большевик, ведомый деникин-цами на расстрел. И так как руки у него были связаны, он на глазах изумленных товарищей, набросившись на своего палача, отгрыз ему нос.
Ну и что? Эпатаж есть. Узнавания нет. Плакат. Агитка.
Теперь раскроем для сравнения «Конармию».
«...Во вторых строках сего письма спешу описать вам за папашу, что они порубали брата Федора Тимофеича Курдюкова тому назад с год времени. Наша красная бригада товарища Павличенки наступала на город Ростов, когда в наших рядах произошла измена. А папаша были в тое время у Деникина за командира роты. Которые люди их видали, — то говорили, что они носили
104
На себе медали, как при старом режиме. И по случаю той измены всех нас побрали в плен и брат Федор Ти-мофеич попались папаше на глаза. И папаша начали Федю резать, говоря — шкура, красная собака, сукин сын и разно, и резали до темноты, пока брат Федор Тимофеич не кончился. Я написал тогда до вас письмо, как ваш Федя лежит без креста. Но папаша пымали меня с письмом и говорили: вы — материны дети, вы — ейный корень, потаскухин, я вашу матку брюхатил и буду брюхатить, моя жизнь погибшая, изведу я за правду свое семя, и еще разно. Я принимал от них страдания, как спаситель Иисус Христос...»
И ниже:
(
«В тое время Семен Тимофеича за его отчаянность весь полк желал иметь за командира и от товарища Буденного вышло такое приказание, и он получил двух коней, справную одежду, телегу для барахла отдельно и орден Красного Знамени, а я при ем считался братом. Таперича какой сосед вас начнет забижать — то Семен Тимофеич может его вполне зарезать. Потом мы начали гнать генерала Деникина, порезали их тыщи и загнали в Черное море, но только папаши нигде не было видать, и Семен Тимофеич их разыскивали по всех позициях, потому что они очень скучали за братом Федей...»
Ну и так далее, вплоть до непередаваемого диалога в конце:
«И Сенька спросил Тимофей Родионыча:
Хорошо вам, папаша, в моих руках?
Нет, — сказал папаша, — худо мне.
Тогда Сенька спросил:
А Феде, когда вы его резали, хорошо было в ваших руках?
Нет, — сказал папаша, — худо было Феде.
Тогда Сенька спросил:
— А думали вы, папаша, что и вам худо будет?
105
— Нет, — сказал папаша, — не думал я, что мне ху-
до будет.
Тогда Сенька поворотился к народу и сказал:
— А я так думаю, что если попадусь я к вашим, то
не будет мне пощады. А теперь, папаша, мы будем вас
кончать...
И Тимофей Родионыч зачал нахально ругать Сеньку по матушке и в богородицу и бить Сеньку по морде, и Семен Тимофеич услали меня с двора, так что я не могу, любезная мама Евдокия Федоровна, описать вам за то, как кончали папашу, потому что я был усланный со двора.
Опосля этого мы получили стоянку в городе в Новороссийском. За этот город можно рассказать, что за ним никакой суши больше нет, а одна вода, Черное море, и мы там остановились до самого мая, когда выступили на польский фронт и треплем шляхту почем зря...» Заметна разница?
Эта виртуозная смесь главного с околичностями, мешанина дополнительных красок, то и дело бьющее по глазам несоответствие тона смыслу, — вот что становится здесь источником откровения. Не событие, а то, как оно произошло, или, точнее, как об этом рассказано. И не поймешь, читая, от чего больше захватывает дух, от истории, которая развертывается перед тобою, или от узнавания его, автора письма, участника событий? Во всяком случае, драматизм узнавания во всех подробностях героя ничуть не слабее драматизма узнавания событийной колеи.
Мы позволили себе столь длинное отвлечение, чтобы лучше разобраться в «Чапаеве».
В одном отношении легендарный комдив все-таки самый. Он не выделяется из числа окружающих его героев, как своих, так и чужих, ни сверхъестественной храбростью, ни глубиной эрудиции, ни даже умом. Он выделяется жизненностью. Он — самый живой. Естест-
106
венный. Конкретно неповторимый. Многомерный. Многокрасочный. Не укладывающийся в прописи и даже противостоящий им. При просмотре фильма драматизм узнавания героя по его словечкам, привычкам, по второстепенным будто бы подробностям поведения полноправно соседствует с драматизмом событий, в которых он принимает участие.
Но тогда, может быть, правы те, кто считает основным конфликтом фильма не борьбу белых и красных, а столкновение Чапаева с Фурмановым и видит в этом отражение весьма важных для того периода нашей истории закономерностей: столкновение организующего, партийного начала революции с анархичным, стихийным ее началом?
Это очень близко к истине, хотя и тут имеются натяжки. Конфликт Чапаева с комиссаром, достигающий кульминации в сцене «А ну, катись к чертовой матери из дивизии!», затем, после двух-трех фраз об Александре Македонском, как бы даже и рассасывается, иссякает. Последняя треть произведения движется вне этого конфликта. Да и трагический финал фильма, косвенно связанный с анархичностью Чапаева, все же, конечно, никак не является разрешением его конфликта с комиссаром.
Нет, надо искать другой источник движения фильма.
Отметим: несмотря на видимую простоту свою, структура этого фильма сложна и причудлива. Событийные эпизоды мирно уживаются с бессобытийными или как бы бессобытийными. Антагонизм красных и белых соседствует со стычками командира и комиссара. Эпическая линия прерывается, чтобы дать место лирической или драматической. И при всем при том фильм внутренне един, монолитен, ничуть не распадается на куски или фрагменты.
Дело в том, что авторский взгляд на героя требует этого разнообразия, предполагает его.
107
Дело в том, что каждая из сменяющихся манер что-то раскрывает, разъясняет нам, решает какой-то пункт той большой художественной задачи, которую поставили перед собой братья Васильевы.
Эта задача — открытие человека. Во весь его рост. В диалектике его отношения к собственным поступкам.
Присмотритесь: что делает Чапаев и как он это делает постоянно противоречат друг другу.
Что, поступочная колея фильма, роднит этот фильм с агитками, о которых шла речь выше. Как сталкивается с этим что, оказывается шире его, богаче, многообразнее.
Преданный делу Ленина до последней капли крови, доблестный военачальник, легендарный народный герой— это что. Это — сверхзадача характера. Это его сущность.
Но. этот окончательный итог деятельности Чапаева находится в видимом противоречии с его человеческим обликом, с его манерой поведения, с его привычками. Тут начинается весьма озадачивающее на первый взгляд как.
Преданный делу Ленина, Чапаев не может никак ответить, за кого же он — за большевиков или за коммунистов. Мудрый военачальник, он анархичен и неорганизован. Легендарный герой, он может в припадке оскорбленного самолюбия унизиться до истерики.
Но самое странное (и в то же время самое закономерное), что именно в силу такого противоречия (точнее, в силу его разрешения) мы как раз и постигаем этот характер с невиданной до той поры в кинематографе доскональностью.
Обертонное своеобразие Чапаева в сопряжении с линией поступков этого человека — вот истинный конфликт «Чапаева».
Линия поступков — это то, с чем подступается к Чапаеву эпоха. В лице одного своего представителя, Бо-108
роздина, белогвардейца, врага, она требует, чтобы Чапаев встал на борьбу с самим собой, изжил бы те качества своего характера, которые мешают линии поступков. Но, собственно, того же самого требует от него эпоха и в лице Фурманова, друга, соратника, в чем-то даже учителя. Эти два человека — Фурманов и Бороздин— противостоят друг другу в плане политическом, но оба они в плане драматургическом оказываются посланцами что. А Чапаев — объект их действий, объект диктата эпохи — противостоит им как раз в силу несводимости своей богатейшей характерности к поступочнои колее образа. Даже гибель его, случайная с точки зрения событийной канвы, оказывается закономерным финалом этого фильма: суровость времени догнала-таки Чапаева и покарала за те черты, с которыми он не успел или не смог расстаться.
Драматическая вина Чапаева, ставшая причиной его гибели, — не беспечность, не плохая проверка караулов, не полуизжитая анархичность. Все это частности более важного. Человечность — вот драматическая вина Чапаева. Человечность в жестокое время, требования которого он не желает замечать. Их отлично постиг Бороздин. За его холеностью, за интеллигентными манерами службиста и меломана видится полное подчинение себя законам сурового века. А Чапаев осмеливается быть личностью, наперекор этим законам. И — гибнет.
Поняв это, мы поймем, чем была для Васильевых первооснова фурмановского романа. Они взяли из романа (а также из дневников и записных книжек Дм. Фурманова) не состав событий — этот состав они сочинили сами, и он достаточно прост. Материалы Фурманова дали им самое главное — ощущение индивидуального своеобразия Чапаева. Роман дал им редчайший набор обертонов, на который создатели фильма могли опереться в своих последующих самостоятельных поисках.
109
Поняв это, мы поймем и тот факт, почему заслуга создания образа Чапаева в такой громадной степени принадлежит таланту Бориса Бабочкина. Именно в силу особенностей драматургического конфликта этого фильма такое значение приобретали каждый своеобразный нюанс, каждая оригинальная интонация. Они оказывались открытиями, и образ, созданный Б. Бабочкиным, стал целой цепью таких открытий.
В своих воспоминаниях замечательный актер объясняет чистой случайностью тот факт, что он не встречал живого Чапаева:
— Я вырос в тех же местах, где потом гремела слава Чапаева, моя комсомольская юность привела меня на некоторое время в Политотдел четвертой армии Восточного фронта, куда входила 25-я Чапаевская дивизия.. И если я не знал Чапаева, то скольких таких же или очень похожих на него командиров я знал! Я пел те же песни, которые пел Чапаев, я знал тот простой и колоритный язык, на котором тогда говорили, я умел сам носить папаху так, чтоб она неизвестно на чем держалась *.
В рамках роли Чапаева как стало для Б. Бабочкина способом раскрытия что, раскрытия правды жизни. Как ходит Чапаев, как кричит он слова команды, как пьет чай, как улыбается — все это становится в фильме методом развертывания основного конфликта произведения.
Не заметить этого как — значит пройти мимо самой сути картины..
|
| Категорія: Фільм без інтриги | Додав: koljan
|
| Переглядів: 342 | Завантажень: 0
|
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі. [ Реєстрація | Вхід ] |
|
|



