Статистика
Онлайн всього: 12 Гостей: 12 Користувачів: 0
|
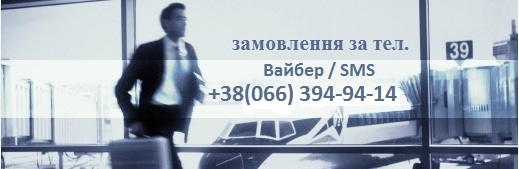 |
Матеріали для курсової |
НАШ ПРОВОДНИК
|
| 22.04.2014, 16:47 |
| Но, собственно говоря, при чем тут Чехов?
В нем можно увидеть своеобразную шкалу, на которой искусство экрана отмечало на разных временных этапах степень своей зрелости. Так ребенок оставляет на дверном косяке зарубки своего роста.
Экранизация «Толстого и тонкого» с весьма скромной дозой огрубления была возможна уже в последние годы частного российского кинематографа. Чтобы вышли на экран «Медведь» и «Юбилей», надо было кое-что иметь за душой. И уж очень много надо было поднакопить, чтобы осуществились такие относительные удачи кинематографической интерпретации, как «Попрыгунья» и «Дама с собачкой». И все же накоплено мало, безнадежно мало, чтобы кто-то в приливе нечеловеческой отваги размахнулся бы, допустим, на «Вишневый сад».
Эту эволюцию кино можно проследить на примере любого большого писателя — кинематограф их обожает. Но в данном случае она, мне кажется, особенно наглядна. Дело в том, что приемы, которыми пользовался Чехов, в определенном смысле — итог, вершина длинного пути развития литературы как искусства.
При всей скромности Чехов прекрасно сознавал отличие своих художественных средств от того, что в его время было распространено как некая литературная норма.
Перелистывая его письма, мы то и дело натыкаемся на настойчивые упоминания о «новой технике», о «новых формах».
«Старой техники» при всем своем благожелательстве Чехов не может простить даже тем, кого уважает. О Короленко вы найдете:
— Немножко консервативен.... придерживается отживших форм (в исполнении)...
15
О «Мещанах» обнаружите такое:
— ...пока я заметил только один недостаток, неис~
правимый, как рыжие волосы у рыжего,— это консер-
ватизм формы...
О повести «Трое», другой горьковской вещи сказано еще определеннее:
— Хорошая вещь, но написана по-старому, и потому
читается нелегко людьми, привыкшими к литературе.
И я тоже еле дочитал ее до конца...
«Люди, привыкшие к литературе...». За этими простыми словами прячется все наше рассуждение о «кристаллизационном пороге».
Конечно, изощренная новизна чеховской техники не укрылась от внимания его коллег. Горький, например, откровенно признавал:
— После самого незначительного вашего рассказа
все кажется грубым, написанным це пером, а точно по
леном...
А Лев Толстой? В интервью заезжему корреспонденту вскоре после смерти Антона Павловича он перечислил достоинства Чехова как художника и заключил:
— Я повторяю, что новые формы создал Чехов, и,
отбрасывая всякую ложную скромность, утверждаю,
что по технике он, Чехов, гораздо выше меня *.
Теперь-то мы знаем, что чеховская техника не явилась на голом месте: драмы его, так же как и проза, были свободным, естественным развитием традиций русской литературы. Но при жизни Чехова это осознавалось немногими. Блок назвал его драматургию «случайной». Благополучно забытый ныне беллетрист и драматург Иван Щеглов не уставал поучать своего друга:
— Законы сцены нарушать нельзя, нельзя, нельзя...
Тот же Толстой, восхищавшийся Чеховым-рассказ
чиком, постоянно сокрушался:
*Газ. «Русь», 1904, 15 июля.
- Только зачем он драмы пишет? Это совсем не его
дело. И говорил в лицо Антону Павловичу:
- Вы знаете, я не люблю Шекспира, но ваши пьесы еще хуже
Стало даже общим местом утверждение, что пьесы Чехова, конечно, прекрасны, но ведь так не полагается писать пьесы!
А Крылов, бесподобный Виктор Александрович, самый лихой драмодел эпохи, предложил однажды Чехову поправить его «Иванова»: «убрать длинноты и погрешности против законов сцены». Он был удивлен, когда Чехов отказался. А тот написал одному из друзей: «Я охотно пожертвовал бы половиной успеха «Иванова», чтобы сделать пьесу вдвое скучнее».
В этих словах нет вызова. «Скука» в данном случае — отказ от заигрывания со зрителем, от потакания его вкусам, желание не подстраиваться под его «уровень кристаллизации», а, напротив, развивать, дотягивать этот уровень, до своего.
Провал «Чайки» означал, что Чехову-драматургу одинаково необходимы и театр нового типа и нового типа зритель.
Такой театр вскоре явился. Тут мы с удивлением обнаружим, что с самого начала он тяготел к нынешнему кинематографу. Знаменитая вещественная натуральность спектаклей МХАТа все-таки имела границы. Вспомним, как оконфузился Станиславский, затащивший было на сцену живую лошадь,— театральная условность не вынесла этого кощунства. А экран может продемонстрировать хоть конюшню, и берегись, режиссер, воссоздавший ее не во всей доскональности: зритель заплатит за это меньшей дозой своего доверия. Мхатов-ские актеры ощущали, изображали отсутствующую в театре четвертую стену,— она легко и просто возводится в студийном павильоне. Ансамблевость, как основное
16
17
условие подхода к «новой» драматургии, опять-таки только в кинематографе получила возможность Осуществиться в полную силу; режиссер кино свободнее и в подборе искомого ансамбля и в филигранной обработке каждой из его составляющих. Упомянем, наконец, и возросшую роль мелочей, нюансов: сама технология экрана — фиксация изображения на пленку - позволяет избавить произведение от накладок, которых, коли верить театральным старожилам, не избежала ни одна премьера, не говоря уже о рядовых спектаклях.
Но тогдашний кинематограф не в состоянии был воспользоваться мхатовскими завоеваниями. Он должен был сам пройти весь этот путь, начав с азов. Он был не всемогущ технически. И самое главное: он имел весьма непритязательного зрителя, прощающего и заламыва-ние рук и закатывание глаз.
Развитие кино с той поры до наших дней — это прежде всего процесс повышения квалификации зрителя. Ныне уже мхатовская школа оказывается недостаточно натуральной. Сегодняшний экран требует предельной вещественности обстановки — многие режиссеры даже интерьер отказываются снимать в павильонах. Ныне потребна невиданная ранее ансамблевость — в ней-то и материализуется синтетическая, полифоническая природа кино. Ныне потребна фантастическая выверенность мелочей. Ибо «порог кристаллизации» кинозрителя достиг весьма высокого уровня.
— Трудно представить,— мечтательно щурясь, говорил в свое время Антон Павлович,— трудно представить, какие удивительные, невиданные формы примет драма через сто лет!
За нами семьдесят из этих ста. Пьесы Чехова не только признаны сценичными, но давно уже стали образцами для почтительного подражания. Именем Чехова клянутся сегодня и драматурги, и критики, и актеры, и режиссеры. Его называют Колумбом XX века, гранью,
18
с которой начинается новая страница театра. Стало уже общепризнанной банальностью, что влияние Чехова на мировую драму не имеет себе равных и что невозможно теперь писать пьесы, не считаясь с завоеваниями Чехова.
Но где же эти самые «удивительные, невиданные формы»?
Даже самые старательные из последователей Чехова озабочены только сплавом принципов своего учителя с традиционными представлениями о драме.. И, рассуждая строго, нет надежды, что в оставшиеся три-четыре десятка лет сбудется предвидение великого драматурга.
А может быть, оно уже сбывается?
А может быть, сам того не подозревая, Чехов предсказал появление кинодрамы — своеобразной преемницы драмы театральной?
Нашу догадку подкрепляет острый, как никогда, интерес к Чехову со стороны кинематографистов. Маститые кинодраматурги превозносят его рассказы, считая их образцом сценарной записи. Режиссер польщен, когда критик находит в его творении чеховские нотки. Исследователи используют высказывания писателя как принципы подхода к нынешним проблемам киноискусства.
Но наиболее тесно связано имя Чехова с тем своеобразным направлением в сегодняшней кинодраматургии, которое мы условно обозначим как тенденцию к фильму без интриги.
С некоторых пор все больше фильмов и у нас и за рубежом презрительно игнорируют стандартные нормативы сюжетосложения. Поиски в области «свободной» драматургии давно перестали быть привилегией какого-то одного художественного стиля. Все чаще и чаще ведущие мастера современности прямо помечают условием дальнейшей работы отклонение от догматической рецептуры.
19
Это не должно бы смущать. Скорее, напротив, достойно удивления зрелище не летящего, а застывшего кинематографа, не мчащегося, а стоящего на месте, не изменяющегося, а творящего по раз и навсегда/утвержденным канонам.
Но, как и в стародавние времена, смущеннее знатоки
разводят руками.
— Фильм прекрасен...— говорят они.— фильм, ска-
жем прямо, блестящ... Но... ведь так не полагается де-
лать фильмы...
И нынешние Викторы Крыловы с охотой распространяются о том, как следовало бы перекроить шедевр, чтобы он стал похож на стандартную, шаблонную продукцию. Ибо их до глубины сердца огорчает, что фильм, созданный для сегодняшнего зрителя, нарушает каноны, порожденные вчерашним уровнем восприятия.
Несколько лет назад в «Комсомольскую правду» пришло письмо, начисто отвергающее «Балладу о солдате». Автор послания, шестнадцатилетняя девочка, призналась, что любит кино восторженной любовью. Она читала ученые книжки и просматривала рецензии. И она открыла, что фильм, увенчанный премиями пятнадцати стран мира, сделан не по правилам.
«Сюжетом фильма авторы избрали поездку бойца Алеши Скворцова с фронта к маме,— рассуждает она.— Это могло привести к созданию волнующего художественного произведения. Однако на каждом шагу авторы подсовывают герою выдуманные препятствия и искусственно затормаживают движение сюжета».
Не надо осуждать девочку. Ее устами глаголет отсталость нашей кинотеории от нужд и потребностей сегодняшнего дня. Отсталость эта тем более нетерпима, что с Запада наперебой доносятся разные красивые слова. Они не столько объясняют, сколько настораживают.
— Антифильм.— Это порождено аналогией с анти-
романом.
20
- Дедраматизация.— Это означает принесение в Кинематографическую драму принципов, ей противоположных.
Характеристика явления по контрасту с предыдущими — завлекательный, но опасный путь. Последовательные сторонники дедраматизации договариваются до наивного нигилизма.
— Драматургия ныне отменена,— повторяют они вслед за непроницательными, недогадливыми современниками Чехова.
Одни огорчаются, другие ликуют. Пусть это не обескуражит, не отпугнет нас. Легко запретить кибернетику— труднее отделить ее достижения от идеалистических напластований. Куда как просто объявить генетику вне закона — сложнее разобраться в ее завоеваниях, отбросить спекуляцию, отмести мифы. Но только эта сложность — дорога к истине.
В нашем случае — то же самое.. Отведем сокрушения и благовесты. Отведем наивную мысль, что фильм без интриги послан нам свыше и возник позавчера, в шестнадцать часов сорок минут. Попытаемся увидеть закономерность этого явления. Быть может, откроется и его неизбежность.
Возникнув в последнем десятилетии минувшего века, кинематограф уже отмахал на диво внушительную дистанцию. Вместе с ним развивалась и его литературная первооснова. Как ребенок в утробном развитии повторяет изначальные формы эволюционного ряда, сценарий прошел этапы последовательной ориентации на литературную основу пантомимы, балета, пытался тягаться с поэтическими жанрами, и только в начале тридцатых годов теория кинодраматургии провозгласила принципиальное родство строения сценария со строением театральной пьесы. Но при этом, само собой, пьеса бралась из традиционной, классической драматургии — дочеховской.
21
Прошло еще три десятилетия — три десятилетий исканий. Быть может, пора от аналогии кинодраматургии прошлых лет с драматургическими принципами театра дочеховской поры перейти к аналогии нынешней кинодраматургии с принципами чеховского театра?
Новаторам всегда трудно. Тургенев умер в скорбном убеждении, что его пьесы несценичны. Они стали сценичными несколько лет спустя, когда МХАТ обратился к ним во всеоружии новых завоеваний.
Станиславский писал:
«Тот же ключ, что отпер Чехова, подошел и к Тургеневу».
Попробуем примерить чеховский ключ к двери нынешней неканонической драматургии кино.
|
| Категорія: Фільм без інтриги | Додав: koljan
|
| Переглядів: 374 | Завантажень: 0
|
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі. [ Реєстрація | Вхід ] |
|
|



